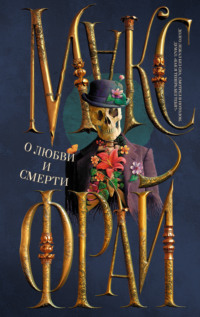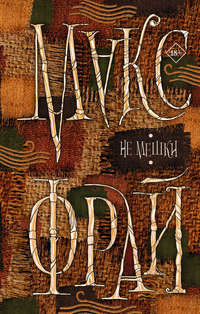Полная версия
Неизвестным для меня способом
Поэтому, – говорит Себастьян, – у меня было очень много свободного времени. И я употреблял его с пользой – на просто-жизнь. Понимаю, звучит не очень, но я всегда считал упоительные паузы между обязательными делами самым полезным занятием в мире и самым увлекательным приключением, даже когда событий раз-два и обчелся. Важны же не сами события, а то, что ты в связи с ними думаешь и чувствуешь. А я всегда думал и чувствовал очень много чего, по любому поводу и вовсе без повода; когда начинает казаться, будто ничего интересного не происходит, мне бывает достаточно подставить руки под текущую воду, переломить пополам спичку, выглянуть в окно. Но пока мы жили в этом краковском доме, спички можно было не ломать. Ощущений и впечатлений всегда оказывалось даже больше, чем я способен переварить.
Одни только мои тайные ночные вылазки в сад чего стоили, – говорит Себастьян, и по голосу ясно, что улыбается. – Я дожидался, пока мама уснет, тихонько выходил в подъезд, спускался вниз по мраморной лестнице; мы жили на третьем этаже, но иногда по ночам этажей между нами и первым становилось как минимум пять, если не все восемь, на лестничных площадках появлялись какие-то новые, незнакомые двери, одни резные и лакированные, другие железные, третьи с хитроумными закорючками вместо номеров квартир; я почему-то никогда не решался остановиться и внимательно все рассмотреть. Не боялся, не в этом дело, скорее не хотел доставить странным новым дверям неудобство своим пристальным взглядом, смутить излишним вниманием, помешать им быть; звучит, понимаю, не особенно убедительно, но так я это себе объяснял.
Я спускался на первый этаж, – говорит Себастьян, – проходил мимо темного закутка, где днем сидела консьержка Агнесса или сама пани Агата; ночью там тоже кто-то сидел, я не видел, но чувствовал, поэтому говорил: «Доброй ночи, я иду в сад», – и неизменно – не то чтобы именно слышал, скорей ощущал ответ, такое снисходительное добродушное разрешение, больше похожее на ласковое объятие, чем на что-то еще. Меня вообще в этом доме любили; не кто-то конкретный, не пани Агата, не дедушка Липот, который учил меня венгерскому, не красивая русская девушка, однажды пообещавшая вставить меня в свой роман, не чернокожий профессор, с которым играли в шахматы, и он слегка поддавался, чтобы я не утратил интерес к игре, хотя, наверное, все они тоже считаются, но, самое главное, я был уверен, знал без тени сомнения, что меня любит весь этот странный прекрасный таинственный дом. И я в него тоже влюбился, конечно, не как в девчонку, но… знаешь, на самом деле немножко похоже. Любовь есть любовь.
…Нет, что ты, – говорит Себастьян, – ничего такого особенного ночью в саду не творилось. Я имею в виду, там не было привидений, вампиров, добрых волшебников, желающих срочно меня посвятить в свое мастерство, тайных ворот в иные миры или хотя бы пришельцев, ничего такого, как в книжках или кино. Просто тихо, безлюдно и беспричинно, но явственно счастливо, как обычно бывает летней ночью у теплого моря – это я только потом, через несколько лет узнал. И, кстати, о южных морях, там, в саду, всегда было заметно теплее, чем в городе, даже зимой. И снег никогда не лежал, если и падал, то сразу же таял; тогда это почему-то казалось нормальным – не только мне одному, маме и нашим соседям тоже – а сейчас, задним числом, понимаю, что вообще-то не может такого быть, это же не какая-нибудь теплица, обычный сад. И звезды в небе над этим садом иногда складывались в знакомые мне созвездия, а иногда в какие-то незнакомые; я понимал, что это как минимум странно, но не тревожился. И ни с кем никогда не обсуждал.
Мы прожили там почти полтора года, – говорит Себастьян. – А потом внезапно умер отец, я получил наследство, мама была назначена опекуном; все эти дела требовали нашего возвращения, объективно требовали, что тут возразишь; в общем, из Кракова мы сразу уехали, и я еще долго сердился на отца: даже своей смертью умудрился все мне испортить, обломал такую прекрасную жизнь. Глупо, несправедливо сердился, это я теперь понимаю. Но, кстати, он бы на моем месте точно так же сердился. Все-таки я иногда до смешного на него похож.
…Конечно, я собирался вернуться, еще бы! – говорит Себастьян. – Но сначала были все эти дела с наследством и мои выпускные экзамены, потом мама захотела в кругосветное путешествие, ездили с ней целый год, потом я начал учиться в Художественной академии, и мне временно стало больше ни до чего, а потом пошла работа, заказ за заказом, мне с ними, ты знаешь, как-то всегда везло. В общем, сам не заметил, как одиннадцать лет пролетело. В прошлом году наконец-то доехал до Кракова, но вернуться туда по-настоящему мне, конечно, не удалось. И нет, это не о том, что в детство не возвращаются, я и не собирался, зачем мне какое-то детство, я просто хотел навестить свой любимый смешной желтый дом. Надеялся, Агата с Агнессой меня узнают, обрадуются и разрешат посидеть в саду. Еле его нашел, не помню с какой попытки, но знаешь, лучше бы не находил: стоит пустой, заколоченный; что стало с садом, не знаю, с улицы туда не пройти. Понятия не имею, что у них там случилось. Нет, мама не переписывается с Агатой. Они не поссорились, просто мама потеряла номер ее телефона и забыла, кто из подружек дал ей рекомендацию, всех спрашивала, никто не признался. Ну нет и нет, тем дело и кончилось. Понимаю, звучит нелепо, но надо знать мою маму. Она же и правда феноменально рассеянная, ложку с десертом может сунуть не в рот, а в карман; я не шучу и не преувеличиваю, такое на моей памяти случалось несколько раз.
А знаешь что самое странное? – говорит Себастьян, наконец отворачиваясь от окна. – Мама, когда узнала, что я собираюсь в Краков, попросила сфотографировать для нее наш дом. А я не смог это сделать. Не об эмоциях речь; мне и правда не особо хотелось – все равно, что фотографировать на похоронах. Но ладно, если ей надо, то мне несложно: щелкнул, почти не глядя, развернулся, ушел. Только потом, в гостинице, увидел, что снимок не получился, вместо дома мутное желтое пятно. Это было так нелепо, что даже глупо расстраиваться. Но я все равно ужасно расстроился – хорош профессионал! Поэтому на следующий день я туда вернулся и снимал уже не на тяп-ляп, а как будто делал заказ. Но представляешь, и это не помогло. Максимум, что удалось выжать из камеры, – вот этот, прости господи, сюрреализм, – и Себастьян достает из ящика письменного стола конверт, а из конверта – отпечатанный снимок, на котором сияет что-то вроде желтого туманного яйца с окнами и балконами. Выглядит, как будто ему удалось сфотографировать сон.
* * *– Я заехала в Тулузу! – говорит Мадлен; то есть практически кричит, потому что дед слегка глуховат, это почти незаметно, но по телефону ему все-таки трудно речь собеседника разбирать, Мадлен это знает и орет в трубку как резаная, четко, практически по слогам. – Мне было не совсем по дороге, но я заехала, специально для тебя! Нашла там улицу Парадоксов, она и правда отличная. И переулок, в котором твой желтый дом. Он прекрасный! Я его сфотографировала, как ты хотел, и быстро побежала к машине, чтобы успеть в Барселону до темноты…
– Спасибо, детка, – отвечает ей дед, он рад, и Мадлен чуть не плачет, потому что вроде бы ерунда, но ужасно, ужасно обидно. И дед, наверное, теперь будет думать, что ни в какую Тулузу она не заезжала, а просто ему наврала. Но лучше все-таки прямо сейчас все сказать.
– Я только теперь увидела, что дом очень плохо у меня получился, – кричит Мадлен. – Просто какое-то пятно. Представляешь? Ужасно обидно! Когда еще я теперь снова в Тулузу попаду. Даже не знаю, что делать…
– Ну как – что делать, – отвечает дед, и Мадлен практически видит, как он сейчас смеется одними глазами, раскачиваясь в гамаке. – Готовиться к тому что я лишу тебя за это наследства. Не скажу, где в саду закопана консервная банка с альтернативным решением теоремы Ферма!
* * *– А в этом смешном желтом доме мы с Катькой жили, – сказала Лиза. – Лет, наверное, десять назад… слушай, нет, больше! В общем, так давно, что, считай, почти никогда. Я тогда приехала в Прагу поступать в киношколу, предсказуемо провалилась на первом же собеседовании, но решила, что все равно тут останусь, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть нелегалкой на птичьих правах, лишь бы не возвращаться домой к родителям, которые теперь до конца дней будут бухтеть: «А мы тебе говорили, что ничего не получится! Только деньги потратила зря». Комната была оплачена до конца следующего месяца, что дальше, я понятия не имела, целыми днями ходила по улицам, чуть не плача от красоты, экономила деньги, почти ничего не ела, нашла одну кофейню с «подвешенным» кофе, то есть бесплатным, как бы в подарок от других посетителей, его и пила, была счастлива и пьяна от свободы и одновременно непрерывно умирала от страха, представляя, как меня вот-вот арестуют за просроченную визу и вышлют из страны; в общем, чуть с ума не сошла. И тут внезапно вытащила из колоды событий самого козырного в мире туза: познакомилась с Катькой. Она меня натурально спасла. Взяла работать в свою галерею, хотя толку от меня там поначалу было меньше, чем от уличного кота. И самое главное, предложила пожить у нее в квартире, сколько захочу. Сказала, дальняя комната все равно пустует, а одной иногда становится неуютно, особенно по вечерам. Я уже потом поняла, что не было ей неуютно. Куда там! Просто Катька умеет вывернуть все таким образом, как будто это ее в трудный момент выручили, а не она всех спасла. И не только со мной, с другими тоже, я видела много раз. Иногда я думаю, что Катька – замаскированный командировочный ангел; смешно, я вообще-то в традиционного бога не верю, но в добрых ангелов, один из которых Катька, получается, все-таки да… А знаешь что? Давай позвоним консьержке? Если сейчас нам откроют и пустят, я такое тебе покажу!
– Ну и не очень хотелось! – обиженно фыркнула Лиза после того, как несколько раз нажала кнопку звонка, а потом, бормоча: «Наверное, не работает» долго, старательно, буквально с каждой секундой утрачивая деликатность, стучала в дверь. Но тут же призналась: – Вру. На самом деле еще как хотелось. Надеялась, может, Агата дома, выйдет посмотреть, кто так шумит, узнает меня, обрадуется, пригласит выпить кофе в саду. А я как раз и хотела сад тебе показать. Он тут большой-пребольшой, глядя с улицы, ни за что не подумаешь. Там даже пинии растут, отлично себя чувствуют, хотя здесь для них, по идее, все-таки холодно. Или нет? На самом деле не знаю, ботаник из меня тот еще… Ладно, в сад не попали, хоть сфотографирую дом на память, – вздохнула Лиза, доставая телефон из кармана. Сделала фото, посмотрела, удовлетворенно хмыкнула: – Ха-ха, и тут полный провал!
– На самом деле даже приятно, что некоторые вещи остаются неизменными, – сказала Лиза, спрятав в карман телефон. И объяснила: – Это такой загадочный феномен, какая-то локальная аномалия, никто никогда нормальную фотографию нашего дома сделать не мог. Ну мне, положим, тогда нечем было фотографировать, но у Катьки была совсем неплохая камера по тем временам. И у некоторых соседей. Точно помню, кто-то еще жаловался, что никак не может нормально сфотографировать дом, чтобы были видны детали. Вечно все расплывается мутным пятном.
– Даже не знаю, как объяснить, почему этот дом и все, что с ним связано, кажется мне таким важным, – вздохнула Лиза, отставив в сторону чашку с кофе, который они сели пить в шести кварталах от желтого дома, ближе ничего приличного не нашлось. – Отчасти потому, что я тогда рискнула, как дура, осталась в Праге без денег и документов, сейчас бы ни за что не решилась, вспоминаю – вздрагиваю: оооооой, как жива-то вообще осталась? И тут вдруг страшный чужой заграничный мир взял меня на ручки и все уладил, практически без моих усилий, сам, даже с продлением визы помогли какие-то Катькины клиенты, и это было совсем уж необъяснимое чудо, до сих пор не понимаю, как.
В общем, – подытожила Лиза, – три года в этом чудесном доме стали чем-то вроде награды за храбрость. И одновременно наглядным свидетельством, что храбрые малолетние дуры не обязательно пропадают пропадом, что иногда бывает иначе, что можно, можно и так! Но дело не только в награде. Попала бы я туда благополучной девочкой, поступившей на первый курс Киношколы, все равно был бы примерно тот же эффект.
У меня, – улыбнулась Лиза, – о том времени остались такие воспоминания, словно я при жизни побывала в раю. Комната с оранжевыми занавесками, огромный балкон, какие-то немыслимые витражи в подъезде, бывало спускаешься утром по мраморной лестнице и кажется, будто живешь во дворце. А сад! Как же все-таки жалко, что я не смогла тебе его показать! И хозяйка дома Агата меня опекала, как родную – не дочку, конечно, а, например, племянницу. Все время угощала чем-нибудь вкусным и книги из своей библиотеки давала читать. В общем, такая у меня была жизнь, что если книжку о ней написать, никто не поверит, скажут: что за чушь, так не бывает, даже неловко за наивного автора… Кстати, о книжках, вот сейчас я тебя насмешу! Я же там всем соседям врала, будто пишу роман. Понятия не имею зачем. Не то чтобы мне хотелось стать писательницей – нет, вообще никогда. Но один раз случайно ляпнула, и все, понеслось, не признаваться же, что обманула. Ходила вся из себя такая загадочная, как будто обдумываю очередную главу, и с важным видом каждому обещала, что сделаю его персонажем романа. И они, бедные, верили, одним было приятно, а другие смущались, просили о них не писать. Но я была неумолима! – фыркнула Лиза. – Говорила, делайте что хотите, а все равно про вас напишу. В конце концов так завралась, что этот роман уже начал мне сниться. Как будто я сижу в своей комнате и его пишу. Жалко, подробностей совершенно не помню, там был какой-то интересный, почти детективный сюжет… Просыпалась усталая, на работе носом клевала полдня, а Катька смеялась: поделом тебе, дорогуша! Дала слово, держи, хотя бы во сне.
– Будь моя воля, – призналась Лиза, – я бы никуда из этого дома не уезжала. Так бы до сих пор там и жила. Но Катька внезапно укатила в Берлин, и все, с концами. Ее там позвали работать куратором в какое-то дико престижное место, «предложение, от которого невозможно отказаться», – так сказала она, когда я привезла ей вещи. Катька настолько резко сорвалась, что почти ничего с собой не взяла, а возвращаться ей было некогда, пришлось выручать. В итоге даже Катькину галерею мы с нашим бухгалтером Войцехом вдвоем без нее закрывали. Работа моя, таким образом, закончилась; я понемногу искала другую, но было ясно, что с квартиры скоро придется съезжать: с такими зарплатами, как мне предлагали, в одиночку аренду не потянуть. Катька звала к себе в Берлин, но без особого энтузиазма; оно и понятно: я была для нее частью пражской жизни, которая уже осталась позади, бывшей любимой подружкой, тут ничего не поделаешь, по себе знаю, как перелистываются страницы судьбы. В общем, пока я думала, как жить дальше, у меня закрутился роман с Жоаном, и все так стремительно понеслось, что через четыре месяца я уже оказалась замужем. И почему-то в Бильбао. В общем, опять все решилось само.
– Все-таки очень жалко, что нам не открыли, – сказала Лиза, когда они ждали трамвай. – Обидно, хоть плачь. Я знаю, что нельзя войти в одну реку дважды, но я же и не собиралась! Хотела просто пройти мимо этой реки по берегу, рукой помахать.
* * *Катя смотрит в окно. За окном ничего интересного, только темная улица, редкие фонари. Так выглядит моя жизнь, – думает Катя. – Несколько огней в темноте – мои шаги. Один из уличных фонарей не горит, поэтому промежуток между соседними с ним фонарями вдвое больше, чем между остальными. Это шаг, который я не сделала, – думает Катя. – И ведь уже тогда заранее знала, что буду локти кусать. И согласилась с этим. Сама выбрала так. Но на то и жизнь, – думает Катя, – чтобы иногда ошибаться, делать неправильный выбор. А счастливая жизнь – это когда у тебя есть возможность переиграть. Я счастливая, – думает Катя, – я все-таки очень счастливая. Мало кому так везет.
…Катя выходит из дома, берет велосипед. Звонить обязательно надо из телефона-автомата, с мобильного ничего не получится, так сказала Агата. Молодец, дотянула до момента, когда телефонных будок осталось совсем мало, но слава богу, они все-таки еще есть. На вокзалах точно остались. А до ближайшего вокзала отсюда, если верить гуглу, около восьми километров. На велосипеде – нормально, недалеко.
Катя стоит в телефонной будке, набирает номер, записанный в старом блокноте, таком истрепанном, что в нем остался хорошо если десяток страниц, исписанных загадочными цифрами и бессмысленными фразами: «Девушка-осциллометр», «Вектор знамения», «Йозеф копать потолок». Черт ее – меня! – знает, что я имела в виду, когда это записывала, – удивляется Катя. – И ведь была свято уверена, что потом пойму.
Катя, конечно, помнит этот номер. За почти одиннадцать лет выучила наизусть. Но блокнот все равно нужен – как магический амулет, как таблетка под языком, как оружие против собственной нерешительности. В конце концов, это же Агатин подарок – блокнот.
Катя набирает код 8813; она, конечно, уже гуглила, что за страна такая. В интернете пишут, мобильная спутниковая связь, а как оно там на самом деле, черт его знает, – думает Катя. – С другой стороны, почему бы Агате не поддерживать связь через какой-нибудь спутник? Чем она хуже инопланетян?
…Катя почти улыбается, представляя Агату верхом на летающей тарелке, и набирает дальше, до нелепого длинный номер из целых восемнадцати цифр. Раздается самый обычный долгий гудок, второй, третий, и вдруг: «Я вас слушаю». Агатин голос. Незабываемый. Агата! Точно Агата. С ума сойти. С ума сойти.
Катя говорит: доброй ночи, Агата, я Катя. «Знаю, что Катя, – отвечает Агата. – И очень рада тебе». Извините, что вот так среди ночи, я давно хотела вам позвонить, но боялась, – говорит Катя. «Знаю, что ты боялась, – отвечает Агата. – Сама бы на твоем месте боялась. Это вообще нормально – бояться в такой ситуцации. Позвонишь, а там “неправильно набран номер”. Или просто долгие гудки». И тогда Катя спрашивает, как будто ныряет в бассейн с вышки, вниз головой: а на какой улице вы в Берлине? «На Яблонскиштрассе четырнадцать, – отвечает Агата. Добавляет: Чтобы долго не искала, это Пренцлауэр-берг», – и кладет трубку прежде, чем Катя успевает сказать: «Я знаю». Вот и все, – думает Катя. – Отступать некуда. Вот и все.
Катя крутит педали велосипеда, не так быстро, как, наверное, следовало бы, когда стремишься к заветной цели, но и не так медленно, как требует паникующий ум; впрочем, вся остальная Катя спокойна, даже сердце не колотится бешено, а стучит, как положено при умеренной привычной нагрузке: тук-тук-тук. Так же спокойно оно стучало, когда Катя, влекомая любопытством, подстрекаемая азартом – чем я хуже соседского мальчишки? он по ночам тут вовсю гуляет, а мне что, слабо? – спускалась по мраморной лестнице любимого пражского дома в начале третьего ночи, всего лишь со второго этажа на первый, восемнадцать пролетов. Восемнадцать! Считала сама. Во все глаза разглядывала двери на невесть откуда взявшихся лестничных клетках, огромные, как ворота, и такие маленькие, что, только пригнувшись, войдешь, деревянные, стеклянные, металлические, разноцветные, белые, сверкающие позолотой, черные, как сама тьма, с четырехзначными номерами, буквами, иероглифами, неведомыми закорюками, картинками, как в детском саду, хотела остановиться, рассмотреть получше, но почему-то только ускоряла шаг, не от страха, ей совершенно точно не было страшно, скорее неловко, как за влюбленными в парке подсматривать, не хочется помешать, смутить. В какой-то момент начала беспокоиться, что первый этаж не наступит уже никогда, и что тогда делать? возвращаться к себе, на второй этаж, в бесконечную высь, пешком, без лифта? Вот это попала, мать! – думала тогда Катя, ей так и не стало страшно, только немного досадно и очень, очень смешно.
Катя останавливается в маленьком сквере, возле первой же скамейки, все-таки надо перевести дух, прислоняет велосипед к ближайшему фонарю, садится, достает сигареты. Она привыкла курить, когда хочет взять паузу и подумать, так проще всего.
Катя курит и вспоминает, как бесконечная лестница с фантастическими дверями внезапно закончилась, она наконец спустилась на первый этаж, и сразу уставилась на пустой закуток консьержки, мальчишка был прав: вроде бы нет никого, а все равно ясно, что есть. Подумала, внятно, четко, как будто сказала, только без голоса: я хочу выйти в сад, – и не услышала, но явственно ощутила ответ, веселое и одновременно немного сердитое: «Врешь!» Хотя Катя не врала, не хитрила, она действительно собиралась просто заглянуть в сад, соседский мальчишка обмолвился, что по ночам там даже красивее, чем днем, и Катя тогда сама себе удивилась: надо же, пятый год живу в этом доме, а ночью в саду до сих пор не была. И ведь не то чтобы рано ложусь, просто как-то в голову не приходит гулять в саду по ночам, даже выйти в подъезд просто так, без нужды кажется странной идеей – что там делать ночью? Что ты собралась рассматривать? Зачем? Удивительно, раньше, еще недавно первым делом бы побежала исследовать, что творится в доме, когда все спят, как в детстве тайком от родителей по ночам лазила на чердак. Совсем взрослая стала, превратилась в скучную тетку, так нельзя, – подумала тогда Катя. И пошла ночью в сад, чтобы не быть хуже храброго мальчишки-соседа, вернее, хуже бывшей самой себя, никаких других планов у нее не было, какие вообще могут быть планы у человека в домашей пижаме, не настолько похожей на спортивный костюм, чтобы гулять в ней по улице. Но в последний момент, то ли сбитая с толку неведомо чьим веселым безмолвным «врешь», то ли просто все перепутав, пошла не к выходу в сад, а к парадной двери, ведущей на улицу. Прежде, чем сама поняла, что делает, привычно нажала защелку, потянула на себя дверь, шагнула вперед, ахнула, отшатнулась и замерла на пороге, вцепившись руками во что-то теплое, доброе и надежное, тогда показалось – просто в дверной косяк, потому что за дверью вместо знакомой Сохаржской улицы был, как ей показалось, весь мир сразу, еще подумала, вспомнив Борхеса, «Алеф», но нет, не весь мир и не Алеф, просто великое множество, несколько – сотен? десятков? тысяч? – разных ночных городов сияют своими лунами, фонарями и окнами, чернеют деревьями, гудят автомобильными сигнализациями, верещат потревоженными птицами, смеются влюбленными парами, пахнут жареной рыбой, ванилью, бензином, гниющими фруктами, морем, разогретым асфальтом, пролитым пивом, цветущими сливами, грушами, сиренью, жасмином, акациями – это уж где что сейчас расцвело. И Агата – конечно, теплое-доброе был не дверной косяк, а просто Агата, хозяйка желтого дома, всех желтых домов во всех временах, городах и мирах – объяснила, не дожидаясь вопроса: просто этот дом слишком хорош, чтобы быть только в одном городе. Поэтому мы с ним решили быть сразу во всех городах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Письменный вызов на дуэль (фр.)