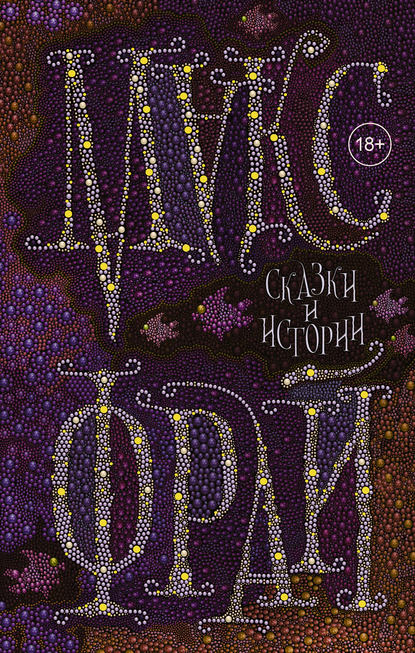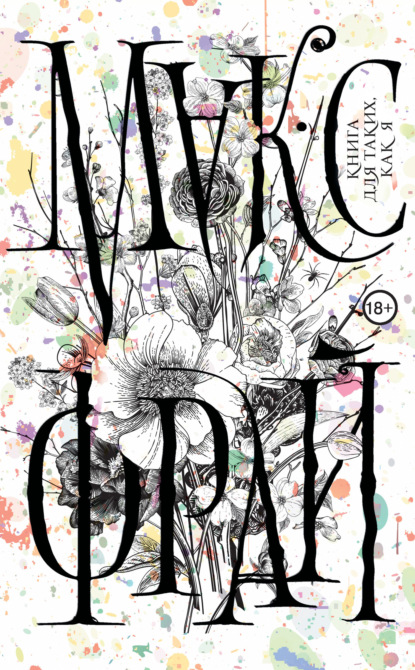Полная версия
Nada (сборник)
– Роза? Что с тобой происходит? Роза! Стой, дерзкая! Иль я тебе не муж?
Улыбка Розы Самуиловны несколько секунд висит в воздухе, а затем медленно исчезает.
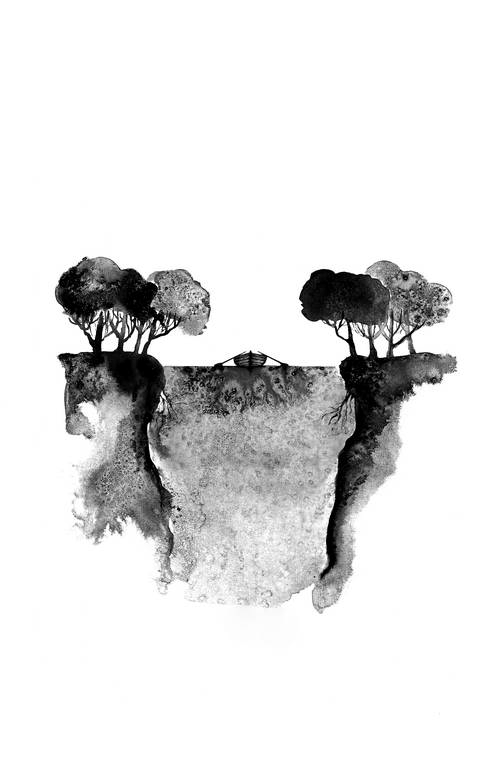
Ася Датнова
Радио Таволга
Никогда они не ходили на лодке вверх по реке, только вниз. Он в тельняшке и с удочкой, она в бирюзовом купальнике и шляпе с мягкими полями. Дачники, но и местным хорошо медленно сплавляться, бросив весла, останавливаться на песчаных пляжах для купания, удить под корягами, и внизу когда-то был мост на ту сторону, брод, санный путь, а вверху – никогда ничего не было.
То место, где сходятся две реки, называется Иордань. Зимой тут прорубь. Одна речка узкая, мелкая, ледяная в июле из-за ключей, заросла камышом и водорослями и на всю глубину прозрачна. Другая широкая, мутная до осени, цвета чая с молоком, теплая. Когда входишь в воду с берега, первым обнимает холод, поднимается до подбородка, но идешь, глядя вниз – к ноге подплывет здоровенный карась, на дне тускло светится крошево перловиц. А потом подхватывает течение, и ощутима граница перехода, теплая жидкая стена, и потом уже плаваешь туда-сюда, на другой берег, до ветлы. Но на это место редко кто приходит, оно дальнее, все купаются на Песках, особенно которые с детьми.
Видели их, как они шли от плотины вверх – сперва по большой воде, на моторе, а потом свернули и пошли по мелкой, на веслах – мотор там не опустить, цепляет траву, а дальше бородатые коряги, упавшие стволы. Из любопытства, наверное, пошли, туристы. Главное, на самом закате. Она встала на дне лодки на четвереньки, показав пацанам на берегу жопку в голубых бикини, свесилась через борт, глядя в близкую воду. И так они медленно плыли, он вел веслом как шестом, пока не скрылись за поворотом, а там уже и мотор включили на малой скорости, слышно было.
Я люблю представлять, что они видели, когда поднимались. Там сперва три давно затонувшие лодки, поросшие зеленью, слизью, илом, потом прошуршали через камыши, и опять открытая вода, речка выворачивает в поля, деревья расступаются, и все хорошо видно, особенно если закатное солнце, как в телевизоре, если в нем показывают аквариум – под водой водоросли тонкие, длинные, как волосы у баб, а другие похожи на кактусы и коричневые, фигурные, в мелких пузырьках воздуха, кажутся серебряными, и еще другие длинные, вроде осоки, слабо колышутся, а есть острые зеленые, и стоят ровно, как копья, снова бревна, на них изумрудные комья бадяги, подмытые корни, и между всего этого движутся стайки рыб – их тут не поймать, если только сетью, но не крючок, червяк, блесна – на наживку они не идут, еды навалом, и караси толсты, головли толсты, а щуки все по течению ниже.
Потом они вышли на плес, где черный ил. Створки раковин там огромны, с ладонь, и с густым черно-синим синим отливом, кобальт, уголь, лазурь, так что она спрыгнула в воду, погрузилась в ил до колен, и шарила в ледяной воде – сразу муть со дна, чернота, но что-то манит, что-то сквозь светится – а никак не достать, что достал – блекнет, крошится. И может быть, он спрыгнул и стал помогать, и даже ныряли, неглубоко ведь, хотя грязно, а может, ворчал и поплыли дальше, оборачивались еще в поля, думали – успеть вернуться до заката. И это качание под водой, все бросишь и смотришь, как оно туда-сюда, туда-сюда, красота такая… Чешуя на рыбах поблескивает, мерцает жабья икра. А дальше я не знал, только думал много.
Что они выберут, когда вернутся – вдруг тут ни села не будет, ни речки, одна старица, и тут на тебе, баба в купальнике. А может, они теперь ундина с каким-нибудь, допустим, кто там у них, ихтиандром. Если достали со дна мерцание, которое не дается человеку, а манит, и если потом бросили же его обратно, то, может, приедут на Пески наши местные головотяпы, распахнут машины, врубят музон, а глядь, его как невидимая рука приворачивает, и из динамиков приятный голос: «Говорит радио Таволга, передаем сигналы точного времени, куку, куку, и о погоде, начинаю ветер…» И вот они уже причаливают против ветра, он загорел, она, наверное, придерживает шляпу.
Симпатичная пара, потому жду их назад. Зачем вверх ходить без нужды, может, им местные про гигантского налима рассказали, который стоит у самого истока, в запруде под ивой, и человеческим голосом разговаривает, такой он старый? Местные за ним пробовали плавать, но только лодки в реке пооставляли; да и нет там никого, враки все, я знаю, я же и был налим.
Ася Датнова
На свету
Мы ходим на охоту за светом, и это поистине самая тихая охота. Начинается в наших краях в сентябре, когда разъезжаются дачники, увозят детей и внуков в города, в школы и детсады, пустеет река и все ее песчаные пляжи и отмели, вода становится густой как желе, ледяной, в воду входят только редкие рыбаки. Особенно хорошо, если год не грибной – тогда и в соснах сухо и пусто, и весь бор меж стволов залит сиянием на рассвете, на закате и при тумане.
За ним ходим с плетеными корзинами – нет такой корзины, которую он не наполнит, не перельется через край, не потечет изо всех дырочек – только так его и можно донести, чтобы свободно дышал. Или можно растворять его в воде, доставать из реки теми же корзинами, трехлитровыми банками, ведрами – но в осенней воде после сезона еще остались детский смех, плеск, женские визги, мужское уханье и кряхтение, разговоры, ссоры, обиды, все, что утекало по воде, что она забирала. Остается взвесь. Мы берем чистый, из воздуха.
Ценим осенний именно, самый тихий, проливается на березы, осинник, листья падают и каждая под ногой серебряная монета, а на ветках еще золотые, красные. Воздух как чистые линзы. Есть и лунный свет, полнолуния, душный летний и крахмальный зимний, розовое весеннее свечение. Но нужный только осенью – после голосистого лета, в безлюдье, бесптичье, безнасекомье. Паузу перед шорохом дождей.
Приносим его домой, разливаем по столу, высушиваем в облатки. Облатки даем под язык.
От них внутри немеет, а потом наступает прозрачность. Помню наших первых пришедших. Одна была – все время плакала, лежала, слезы затекали в уши – перепутала, где кончается она, а где начинается остальной мир, чувствовала всех сразу и мышь, которую ест кошка, и лягушку, которую глотает уж, в кафе пообедать не могла, людей чувствовала тоже, а человек к такому плохо приспособлен. Другой кричал – забирайте ваше золото молчания, боялся, что перестанет работать, думал, надо мучиться. Убедили покоем и волей.
Это Боглаз придумал, он поднимал птиц на крыло, у него все их перья были сочтены, позвал нас – кто без ума от лошадей, кто первый среди рыб, кто по змеям – по кускам собирали человека, по подобиям. В людях только одна я тогда немного разбиралась. А теперь у нас самый известный на десять ближайших слоев мира, потому что первый, центр реабилитации людей – пока маленький, на шесть коек, но к следующему полувеку рассчитываем на расширение.
Ася Датнова
Хожалка
Над городом металась тьма – а дальше, за городом, снег на полях был белым, подсвечивал горизонт, и долго после заката стояло тусклое свечение. Из села Балашов был виден краткой цепью огней – фонари на участке однополосной трассы, над мостом, а село с моста, напротив, видно не было никогда: поля и тьма. Зимой солнце над горизонтом включалось, как поворотник дальнобоя на трассе ночью, красное, и сразу входило в тучи, оставляя неуютного цвета розовую полосу.
В детстве коровы ей были похожи на облака, пятнистые грозовые тучи, дождевое вымя. Ночкой звали белую корову с единственным черным пятном во лбу. Тяжелые облака коров шли на закате по центральной улице села, поднимая до неба мягкую пыль, та в закатных лучах светилась, дышали бока дирижаблей, катили перед собой золотой дым, и корова в тумане звучала как пароходный гудок, говорила: «Ма!» По первым морозам их резали, раскладывали туши на снегу.
…Ее ма была дояркой – в селе боялись бывших доярок, они громко кричат с матами. Когда ма заболела, лечиться не поехала, от города отказалась, говорила «поскорее бы» и «вот как все надоело». Потом стала видеть, что печка в избе пляшет, а то женщина какая-то приходила и пела «Упали туманы в поля за курганы». Хожалка у ма была россомаха – пол обметет тряпкой крест-накрест, а не как следует. На каждую соцработницу в селе приходилось в среднем по десять старух, и Рита переехала в село. Ма перестала ее узнавать, звала «кормилка» и «купалка».
Балашов все равно обрыд – в зиму ледяной и продуваемый, с огромными елями на аллее гипсовых бюстов, с пешеходной зоной и вокзалом, без общественного туалета, но с драмтеатром в дореволюционном здании красного кирпича. Симпатичный Денис закончил актера театра и кино в музыкальном училище города, а до того работал монтировщиком сцены; он съездил отдыхать не как все, а в Индию, привез душные аромапалочки, с восторгом рассказывал космогонию. Кали, иссиня-черная женщина с алым языком, как у овчарки, была примерно как Родина-мать.
В детстве крашенный розовым и серебрянкой клуб работал, привозили кино. В зале курили, на туманном экране ходил слон. Ма так любила кино, что назвала Гитой, пришлось потом менять. Когда получила в наследство от ма дом, продала и взяла билет, в Индии хотя бы тепло.
Ехала из аэропорта, стоило ли, раздолбанная дорога, лужи с утками, люди спят на земле – все знакомое. Дели пах бедностью, гарью, благовониями, выхлопами. Коровы подъедали мусор с асфальта. Коровы были другие – длинноногие, мелкие, тощие. Но женщины были одеты ярко и пахли приятно. У храма по зеленой ряске фонтана бегали цапли. Хотелось домой.
Познакомилась в отеле с Валей из Тюмени, Валя знала английский, говорила, Индия инкредибл, Мумбаи треш, а тру Индия лежит дальше, звала с собой по ашрамам. Поезда опаздывали и в плацкарте было битком: «Главное, понять, пристают к тебе или нет – они и просто так прижаться могут, их миллиард, они в тесноте привыкли».
Был океан, выносил на песок водоросли, и два индуса подсматривали, как они купаются. У слонихи Лакшми были маленькие внимательные глазки, а кожа в пятнах как кора платана. Слониха благословляла хоботом, клала его людям на макушку, за деньги. Потом была Ама, темнолицая, полная, пожилая – всех обнимала, обняла, говорили, уже несколько миллионов человек. Обнималась, как ма, с толстым мягким животом. В Валиной скороговорке «моя дорогая» стало звучать как «ма дурга».
Потом ашрам Вале надоел, потому что Ама попсня и кругом одни лесбухи.
Вернулись в мутный и душный Дели, двинули в Ришикеш. Искали садху, чтобы идти с ним в куда-то в горы на севере, Гита просила, чтобы он был хотя бы в штанах. Такого и выбрали среди разных, старых, средних лет, с волосами, свалянными в седые дреды, в набедренных повязках, раскрашенных, лысых, с выбеленными лицами. Чтобы был как отец, которого не было.
Ганг был порой похож на Волгу, в небе ходили кругами коршуны.
Купили крепкие трекинговые ботинки, пели сат нам, мое имя истина, а через два дня Валя плакала на привале – соскучилась по сыну, оставила его с бабкой в Тюмени, найти бы европейца какого нормального, или америкоса. Ее один швейцарец звал на зиму на пуджа-бич, он там рядом снял дом, обещал ей оплатить комнату на месяц. А садху тут этих как собак, и все мошенники. Звала с собой. Но в горах было лучше.
Влажный жар сменился сырым холодом, кровь стучала в висках. Муравейники храмов и статуи с подведенными глазами, паломники у лингамов яростно кричали «хар, хар», как грачи, на горы садились облака – у нее не было раньше гор, только степи, океан еще похож на степь, но странно, когда нигде нет горизонта. Садху хотел домой, она расплатилась, деньги кончались, но еще надо было пойти выше на гору, на зеленые склоны, мимо бурной белесой речки. Было пасмурно и дождливо, глаз отдыхал на неярких оттенках, в сером тумане, вверху ждал снег.
Садху тащился за ней, показал пещерку на склоне горы, потом взял ее руку и положил себе на штаны. Она орала на него, как доярка. Он испугался, смутился и побежал от нее вниз по склону, мелкий и худой, тряс руками, его было жалко. Присела на камень, и вместо мантр думала: шашкой стальною блестя предо мною Хопер свои воды уносит в моря – пел будто бы краснознаменный хор лягушек.
Садху все-таки он вернулся, отвести толстуху вниз, но не нашел никого в пещерке. Позвал – с горы тяжело спустилась к нему телка, большая, с раздутыми боками, белая, с черным пятном на лбу.
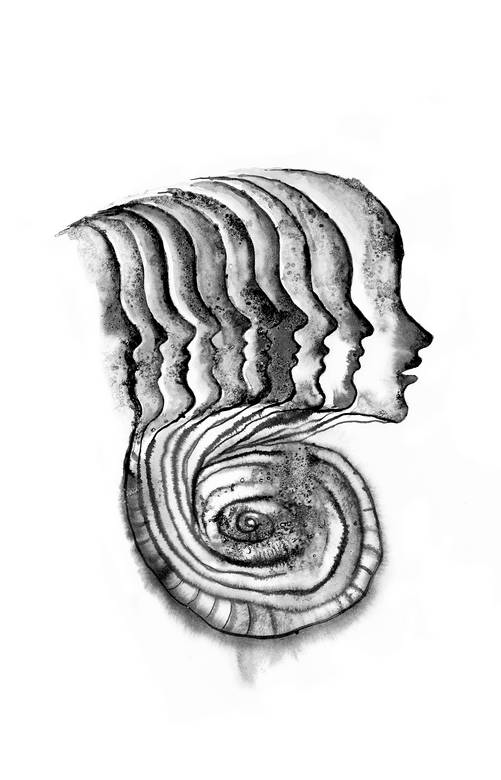
Татьяна Замировская
Тибетская книга полумертвых
Жизнь у меня теперь происходит в три смены, как и работа. Каждая смена – два дня. Понедельник и вторник я работаю в Орше в конце 90-х. Мне 17, я собираюсь поступать на журфак. Я работаю в коммерческом магазине маминых друзей в полуподвальчике на улице Кирова: упаковываю игрушки и сладости в полиэтиленовые пакеты, давлю на чугунную синюю клавишу кассового аппарата с шарманочной весенней рукоятью, отсчитываю поштучно сигареты подросткам. Мне платят 10 долларов в неделю.
Среду и четверг я работаю в Москве середины двухтысячных редактором мужского журнала «Эллипс». Про нас с Сашей шутят, что у мужского журнала два редактора, и обе женщины. Саша – самая прекрасная женщина в мире, и мы с ней все время ругаемся из-за разных подходов к редактуре: она самостоятельно переписывает все материалы, а я отправляю автору на доработку. Мне платят полторы тысячи долларов в месяц, тысяча уходит на оплату однушки в двенадцати минутах пешком от станции «Аэропорт», и все эти двенадцать минут идешь будто и правда через длинный бесконечный пустой аэродром – поля, стадионы, грязные взлетные полосы, усыпанные рыхлым снегом.
Пятницу и субботу я работаю в Нью-Йорке две тысячи десятых продавцом косметики из Бразилии – в смысле не я из Бразилии, я из Орши (хотя я никогда не озвучиваю это в ответ на традиционный дружелюбный и ранящий меня вопрос о том, откуда я с таким смешным, умилительным акцентом), косметика якобы из Бразилии. Каждое утро я прикрепляю к маленькой стойке снаружи магазина манговый крем для рук с рожком-диффьюзором, и уже к полудню прохожие выдавливают его без остатка и без совести. Часто крем и вовсе сразу крадут, но я не должна из-за этого переживать, я наемный работник. На обед я хожу в мексиканский ларек «Кафе Хабана» через дорогу; крошечная пухлая пуэрториканка Лилианна спрашивает у меня: «Как обычно, куриная кесадилья с бобами и рисом?» и я, сглатывая скатавшуюся, сухую слюну – словно банановой корки нажевалась – киваю. Я ненавижу есть одно и то же, но, чтобы не обидеть Лилианну, повторяю: «Да, мне как обычно»; дернул же меня черт когда-то два дня подряд заказывать кесадилью. После работы я могу зайти в бар выпить с подругой. Мне платят 15 долларов в час.
Выходные же я провожу в Будапеште. Точнее, выходной; он у меня только один, но мне хватает. Мне не нужно работать. Я останавливаюсь в гостинице, чаще незнакомой (и это странно). В Будапеште я потому, что приехала туда в надежде встретиться с Михаилом, точнее, случайно встретить его на одной из улиц – около Оперы, около легендарной надписи «Катя, я люблю тебя. Петя» под Цепным мостом, около центра современного искусства в том странном еврейском квартальчике, на безлюдном ночном острове Маргарет с поющей чужие гимны траурной беседкой, в которой я однажды вздумала провести душную летнюю ночь, пока не загремел помпезно гимн и я не запуталась в спальнике, как ночная мохнатая бабочка в коконе – не выбраться, не улететь. Я всегда и обязательно встречаю Михаила, и всегда случайно, где бы я его ни встретила. Вначале он злится, что его нашла. Говорит, что я его выслеживала, преследовала, что я сумасшедшая, одержимая, ненормальная. Потом он говорит, что все же скучал по мне, и я немного расслабляюсь, а ведь всю рабочую неделю я ужасно напряжена. Мы идем ужинать в суши-ресторан, потом катаемся на трамвае по горкам Буды, потом отправляемся ко мне в гостиницу и там занимаемся любовью, потом засыпаем, потом я просыпаюсь и мне пора на работу: понедельник, выходной закончился, впереди трудовая рабочая неделька.
Это длится достаточно давно, но мне трудно понять, как именно долго: я не могу считать недели, и мне ничего нельзя взять с собой. Даже если я буду записывать недели в блокнот, я потом не найду этот блокнот – как-то пыталась записывать недели в Орше в школьной тетрадке по химии, серой, с прожженными соляной кислотой клеточными листочками, но на следующий день обнаружила, что тетрадь пустая, поэтому записывать перестала: какой смысл, если следующий день будет таким же, с такими же изначальными условиями: пустая тетрадь, неприятные шуточки вокзальных дядек, мрачный ужин с родителями, не чавкай, говорю я отцу, встала и вышла из-за стола, нашлось тут говно меня учить, кто ты такая со мной так говорить, встала и вышла говорю. Встаю, выхожу. Когда я жила в Орше с родителями на самом деле (в том, что, вероятно, и было моей жизнью), после таких ситуаций я все записывала в дневник, который прятала среди басовых струн фортепиано, осторожно отогнув деревянный засов и отодвинув массивную лаковую и гулкую нижнюю крышку. Теперь нет никакого смысла – я знаю, что следующим утром проснусь в мире, где не было вчерашнего дня. Я быстро, если не мгновенно, поняла, что двухдневная смена состоит из двух не связанных друг с другом дней. И все эти дни как бы в случайном порядке: может быть, я так и живу на самом деле свою жизнь, в случайном порядке. Или все люди всегда так живут, в случайном порядке, а времени нет.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.