
Полная версия
Убить некроманта
И с тем же успехом.
Единственный настоящий король вампиров – судьба. Они слушаются только её и только по её указаниям, скрытым от смертных, выбирают жертву. И пытаться поить вампира чьей-то кровью по своему произволу – всё равно что предложить вассалу из древнего и славного рода переспать с чьей-нибудь чужой женой по твоему выбору. Выйдет совершенно одинаковая реакция: делать это они, разумеется, не станут, зато оскорбятся в лучших чувствах и уж, во всяком случае, не будут после этого хорошо к тебе относиться.
А мне хотелось, чтобы неумершие меня любили. Слабая компенсация за нелюбовь людей. Поэтому я из кожи вон лез, чтобы не сделать какой-нибудь неловкости – и не делал. Только то, что они принимают. Только то, что им нравится. И они выражали признательность очень приятным образом.
Сидишь, бывало, в обществе Оскара и пары-тройки младших вампиров из его клана в кабинете, у камина. На их ледяных ликах пляшут отсветы огня, и в очах у них – тёплые искры, и позы расслабленные, как у пригревшихся кошек. Если прищуриться и не обращать на Дар внимания, то будто с людьми болтаешь. Хорошо.
Оскар не первый раз за своё четырёхсотлетнее бытие имел дело с некромантами. И общался с ними, и тайное знание изучал, так что опыт имел немалый. Вот разве что дружил нечасто. А я ему приглянулся – и он меня учил таким вещам, в которых книги не подмога: направлять Дар, прикрываться им, распределять… превращать остриё Дара в клинок для точного удара или в несущуюся волну, если нужно сражаться с толпой или поднять несколько трупов. Он чувствовал по-другому, но когда начинал показывать – я понимал моментально. И для меня каменная стена древнего знания, о которую я колотился башкой уже несколько лет, сначала стала прозрачной, а потом постепенно начала таять и сходить на нет.
И ещё: вампиры меня усиливали. За то, что я их грел, они несли мне Силу, которую собирали смертями, а я эту Силу впитывал и наполнял ею Дар. Дурацкий ошейник на мне почернел и оплавился, но этого никто из батюшкиных людей не замечал. Ошейник и ошейник. На месте, не избавился я от него – значит, всё в порядке. Что им, в самом деле, разглядывать меня, что ли…
В городе обо мне болтали, что я брал вампиров в постель. Ну это ж святое! Меня вообще сватали со всеми силами, с которыми я имел дело. Кроме, кажется, драконов – да и то по причине слабого воображения. Надо же объяснить, как развлекается мужчина, который не шляется по непотребным девкам – тем более мужчина с моей славой. Никто же не знал, что меня при мысли о постели просто мутит после супружеской-то спальни. В общем, мои прегрешения с неумершими – это тоже неправда.
Даже не знаю, к сожалению или к счастью.
Вампиры не делят ложе с живыми, а уж с некромантами в особенности. И тем и другим это одинаково неприятно, как если бы уложить в постель ледышку и головню. Любви не выйдет – будет больно.
Правда, мои неумершие подданные, существа очень чувствительные к одиночеству, мне сочувствовали и старались меня приласкать на свой лад. Главное проявление нежности, преданности, благодарности и всего остального у вампиров – поцелуй. Они мне руки целовали. Потом, когда я уже осмелел и освоился с ними, я иногда позволял Оскару – но только Оскару, самому верному, самому близкому ко мне и самому старшему – поцеловать меня в шею, в то место, где кровь бьётся под кожей. Выражение запредельно полного доверия, величайшего, на которое только способен человек, общаясь с неумершим. Опасное удовольствие. Он чуть прикоснётся устами – и я чувствую, как Сила прошибает насквозь, будто молния.
Я для старого вампира был талантливый мальчик, воспитанник, и ему это импонировало. Мы с Оскаром действительно очень близко сошлись – насколько вообще смертный может дружить с Вечным, не теряя достоинства. Смешно сказать, но дружба вампира – штука не менее рискованная, чем его неприязнь. Я знаю: Оскар не плёл никаких интриг… но его иногда заносило. Как-то раз, например, он предложил мне своей крови: заключить братский союз.
Соблазн меня чуть не убил. Я спать не мог, не только губы – руки себе в кровь искусал, размышляя. Хотелось невероятно. Но я отказался.
Прими я этот подарок – принял бы вместе с колоссальной мощью и зависимость от Сумерек. Как бы ни был силён некромант, а Сумерки в конце концов всё равно согнут его под себя. И всё: ты уже вне мира людей.
Я не мог отказаться от людей.
Я не питал иллюзий: люди ненавидели меня. А я… не знаю, уж наверняка не любил их – но меня к ним влекло, как магнитом. И я всё время ловил себя на мысли, как буду использовать Дар, когда стану королём. Как человек. Для людей. Для своего Междугорья, а не для Сумерек. Так и объяснялся с Оскаром.
Оскар меня понял. Огорчился, но не настаивал. Вампиры независимы и тактичны. Он даже не прекратил делать мне маленькие любезности.
Мне, например, нравилась Агнесса, одна из его младших учениц. Девы-вампиры обычно выглядят опасно, дико, как стихия, облечённая плотью, а Агнесса была тихонькая, ликом нежная и с прекрасными кудрями цвета тёмного янтаря, волнистыми, как руно, длиной по самые бёдра. Оскар знал, что она мне нравится, и брал её с собой. И мы, бывало, сидели в креслах у огня, а Агнесса устраивалась на низенькой скамеечке около меня. Клала головку мне на колени, и я её волосы перебирал.
Она совсем юная была, Силу имела такую прозрачную, еле заметную, как струйка позёмки при слабом ветре… Отвлечёшься – кажется, что рядом живая девушка. А вот поднимет головку – очи вроде тёмных вишен, и лик фарфоровый, белый, прозрачный, неподвижный, прекрасный, но неживой – так вся иллюзия и пропадает. С ней мы не были близки, само собой, но чуть-чуть друг друга грели. Спустя небольшое время мой Дар сделал её одной из самых сильных дев в клане Оскара – за её нежную дружбу.
Так что вампиров я отстранённо и осторожно, но всё-таки любил. От неприкаянности. И за то, что они видели моё внутреннее естество, а не пытались судить по жалкой внешности. И через некоторое время я отлично их понимал. Они тоже зов моего Дара слышали, где бы ни были.
Я бы пригласил их к своему двору, но.
Одна из главных заповедей неумерших: Сумерки кончаются с рассветом. Вампиры в человеческую политику не лезут. Одно дело – личная симпатия, а другое – служба. Вампиры не служат. Я только надеялся, что в критический момент смогу позвать, и они придут на помощь из симпатии.
Тоже совсем неплохо.
Ведь их дружба уже приносила мне немалую пользу. И даже через некоторое время от их Силы, от их прикосновений кожа у меня на морде выровнялась, прыщи исчезли, как вымерзли. Намного красивее я не стал, но мне и этого было довольно для скромной радости.
Обо мне, конечно, начали болтать, что я, мол, душу продал за сомнительные изменения своей мерзкой наружности – но я уже не удивлялся и не злился. Послушать горожан, так у меня целая куча душ имелась на продажу. И я просто занимался своим делом, не обращая внимания: собака лает, ветер носит. На этом меня и застали те события… которые, как говорится, меняют лицо государства.

Папенька мой, здоровый, как бык, болел чрезвычайно редко. И, наверное, поэтому был невероятно мнителен. Стоило ему слегка простудиться или съесть чего-нибудь неудобоваримого – тут же отправлялись гонцы в монастырь Святого Ордена в Полях, где жил его духовник, а все лекари, знахари и прочие шарлатаны поднимались по тревоге. Такие приступы ипохондрии повторялись примерно раз-два в год и меня не тревожили. Я не сомневался, что жизненных сил у батюшки хватит на то, чтобы портить мне кровь ещё достаточно долго.
Что бы обо мне ни болтали, убить отца я был не готов. Ради власти, ради трона, из мести, для пользы короне, ненавидя его, презирая – не готов был, и всё. Единственный момент, когда я сделал бы это без колебаний и угрызений совести – это когда папенька, не слушая меня, приказывал казнить Нэда. Но тогда я не смог – а теперь… не думалось об этом.
Откровенно говоря, я ожидал, что батюшка проживёт ещё лет десять-пятнадцать. Что я тем временем буду спокойно учиться, копить силу, оценивать обстановку – и, надев корону, сразу превращу Междугорье в величайшее из государств мира. Я чертил вокруг своих тарелок восьмиугольную звезду, оберегающую от яда, и надеялся избежать стрелы и кинжала в спину. Мне вроде бы было обещано, что хоть один день, да я посижу на троне, но я перестраховывался.
Только человек предполагает, а Господь располагает.
Папенька приболел в конце моей вампирской зимы. Я ещё ничего не успел.
Во дворце начался обыкновенный бедлам, появилась толпа священников, повсюду бегали лекари с банками, пучками трав, горчичниками и прочими припарками, нищим раздавали милостыню, дамы в ужасе рыдали, кавалеры ходили на цыпочках и говорили шёпотом.
Поскольку вампиры нутром чувствуют дыхание Предопределённости, я спросил Оскара, не собирается ли кто из неумерших отпускать моего батюшку. Спросил просто на всякий случай и для очистки совести. И Оскар ответил очень категорично, что душа государя проводника к Божьему престолу не звала, а потому мой порфироносный отец в высшей степени скоро встанет на ноги.
Я даже порадовался в глубине души.
Но тут явилась тень Бернарда с докладом. И доклад привёл меня в отчаяние.
– Папенька-то ваш сегодня утром проснулись – ан грудку у них и заложило. Кашель напал – страсть. А прокашлявшись, они, вестимо, послали за лейб-медиком и так изволили гневаться… Ты, кричали, такой-сякой, у меня чахотка начавшись, а тебе и нуждочки нет… Ему уж все округ в один голос поют: государь, мол, батюшка, какая может быть чахотка, чай, ветерком в горлышко дунуло – а он всё на своём. Умираю, мол. И послали за духовником.
– Он, значит, завещание составил? – говорю.
– Истинно так, ваше драгоценное высочество. Истинно составил. Розовый Дворец с пшеничными полями – вашей маменьке, Медвежью Башню с охотничьими угодьями – дядюшке, Скальный Приют и винограднички – супруге вашей. Медовый Чертог – вашему братцу двоюродному. Озёрный Домик – младенчику, когда тому шестнадцатый годок пойдёт. Сокровища – прочим родственничкам по малости. Рубиновый венчик с алмазной звездочкой…
– Погодите, – говорю, – погодите, Бернард. Мне, значит, по этому завещанию полагается по миру с сумой побираться? Я ничего особенного не ждал, но чтоб так явно и неприлично…
– Вам – городской дворец, что нельзя никому передать, кроме как старшему в роду. Библиотеку, уточнили, вам – особливо. Короны-то батюшка ваш раздарили, а об вас, ваше высочество, так изволили сказать: коли ему корона нужна, пусть свою заказывает али из мёртвых костей себе соберёт. Коли, молвили, ему дрянные-то книжки любее бриллиантов, так пусть себе книжками блеск престола посильно обеспечивает. В одно слово так, ваше высочество.
– Понятно, – говорю. – Благодарю вас, Бернард.
– Так ведь не всё ещё, ваше высочество.
– Всё уже понятно. Что ещё-то…
– А когда они диктовать-то кончили, грудку-то у них, видно, полегчило. Так они изволили улыбнуться и молвить, что, мол, коли они, паче чаянья, останутся на белом свете жить, то уж станут Господу угождать. На Святой Орден пожертвуют да прикажут, чтоб остроги отомкнуть и колодников-то на волю выпустить, а также и каторжников, что руду добывают… А потом поразмыслили в уме своём и добавили, чтоб не всех, конечно, колодников, а тех только, кто государя не хулил и в предосудительных чтениях не замечен. Коли проще сказать – воров да разбойничков… Маменька ваша изволили прослезиться от умиления, а иные-прочие крепко призадумались…
И я тоже крепко призадумался. Я просто сел и обхватил руками голову, которой хотелось биться об стенку. Жалел только, что нельзя настучать об стенку башкой кое-кого другого – чтобы в трещины ума вошло.
Я слишком хорошо знал, какая у нас в Междугорье обстановка с разбойным людом. На Советах об этом не слишком много болтали, зато в приватных беседах только так чесали языки. От лесной вольницы житья не было, а бригадир жандармов, по слухам, брал с воров налог на право спокойно работать. А когда по папочкиному проекту тысячи этих бедняжек, которых неким чудом удалось-таки заставить вкалывать на благо короны, выйдут на волю, голодные и злые…
Если король-отец поправится.

Я не хотел его убивать. И уж во всяком случае, не наслаждался происходящим. Но меня припёрли к стенке.
Пропади оно пропадом, моё наследство. Мне в любом случае не светило получить много. Но меня грызла мысль: что если он выздоровеет, распустит в стране ворюг, а после этого свалится с коня или ещё как-нибудь сыграет в ящик? Что я тогда буду делать? Мне же и так остаётся не государство, а загаженный свинарник, у меня и так будет непочатый край работы и нечем платить исполнителям, да ещё и разбойников я получу на свою голову?
О, если бы я мог решить, что это его каша и ему её расхлёбывать!
Не получалось. Я слишком хорошо знал, что мой батюшка не расхлебает. И что, пока жандармерия возится с ворьём, кто-нибудь умный элементарно на нас нападёт и в очередной раз откусит кусок нашей территории. И на это снова будет Божья воля.
Меня просто в узел скручивало от этих мыслей. Я двое суток не мог спать, не мог жрать, и всё валилось из рук. Я ждал, что будет. В глубине души я надеялся, что батюшка одумается, когда у него спадёт лихорадка.
Не одумался. Через эти двое суток он сидел в большой приёмной, сияя, как надраенный медный пятак. А вокруг на него любовались обожающие придворные.
А батюшка вещал:
– Вот что значит – Божий Промысел! Государь должен быть милосерд, и для осуществления милосердия мне оставлено моё земное существование!
А я думал: лучше бы ты печной налог снизил и провинциальным сеньорам чеканить свою монету запретил. Из милосердия.
Я терпеть не мог говорить в толпе, но он не ловился с глазу на глаз. Поэтому я всё-таки сказал против всех своих правил:
– Государь, прошу нижайше, может быть, вы всё-таки ещё подумаете над этим решением?
На меня зашикали со всех сторон. А батюшка побагровел и взревел на весь зал:
– И ты смеешь мне об этом говорить, Дольф?! Ты, гриф могильный, жестокосердная тварь! У тебя, я вижу, всё внутри переворачивается, когда кто-то желает угодить Богу и людям! Ты хоть одну минуту можешь не думать о зле, выродок?!
– Я хотел бы объяснить свою точку зрения, – заикаюсь. Я ещё очень хотел договориться. Но мне не удалось в своё время спасти Нэда. И теперь я не мог спасти… не дело некромантов – спасать.
У меня и вправду всё внутри переворачивалось.
А папочка сощурился, выпятил подбородок и процедил сквозь зубы:
– Ты думаешь, просвещённого правителя интересует мнение некроманта? Да я ночей не сплю от горя, думая, что ты наследуешь престол моих предков! Будь уверен, милый сын, я найду способ обойти закон первородства. Я написал письмо Иерарху Святого Ордена. Посмотрим, что он ответит.
Придворные захихикали. А я…
Меня это известие чуть с ног не сбило. Он завещает трон кузену. Или Людвигу Младшему, если ему Иерарх присоветует. А мне придётся узурпировать власть, свою собственную корону – через кровищу и ещё неизвестно что… если меня не зарежут, когда буду в очередной раз ночью возвращаться с кладбища.
Справедливость и милосердие.
И я посмотрел ему в лицо. А он крикнул:
– Да я сегодня же подпишу приказ об освобождении!
И тогда я собрал Дар в луч, в тонкий клинок, почти в спицу – и воткнул ему в горло. А потом провёл ниже, к груди, где ещё чувствовал остатки его простуды, как красное горячее пятно. У меня на душе было скверно.
И мой бедный батюшка захрипел и начал кашлять. К нему все бросились, лекари прибежали, притащили какие-то тазы, тряпки, а он всё кашлял, задыхался от кашля, захлёбывался – кровь пошла горлом, а он кашлял, кашлял…
Мне хотелось сбежать из этого зала, спрятаться где-нибудь и отреветься, и кусать пальцы, и проклясть и Дар, и мою детскую просьбу Той Самой Стороне, и мою поганую судьбу… Но я стоял и ждал.
Меня подтолкнули в спину, и я преклонил колена, и отец смотрел на меня бешено и кашлял, и на губах у него выступила кровавая пена, раздувалась пузырями, а он хотел меня проклясть, но не мог – я заткнул ему рот этим кашлем.
И он показывал на меня дрожащей рукой, и все кивали, а он уже не кашлял, а хрипел. А потом глаза у него закатились и помутнели.
Потом я стоял на коленях возле трупа и плакал. Навзрыд. Над отцом, над Людвигом, над Нэдом – и никак не мог остановиться. И все стояли вокруг кольцом и молчали, потому что тот предсмертный жест короля можно истолковать как угодно, а приходилось толковать в мою пользу, потому что отец тоже ничего не успел.
И я ощущал ненависть двора всей спиной, но мне было всё равно. Наверное, если бы в тот момент кто-нибудь захотел меня убить, у него бы это вышло. Не знаю. Никто не попытался.
Все были в каком-то столбняке.
И тогда я сказал:
– Мой несчастный отец ошибся. Его решение было не угодно Богу. Поэтому приказа не будет. Позовите монахов, надо позаботиться о теле.
В гробовой тишине кто-то нервно хихикнул. И я подумал, что он, наверное, сейчас представляет, как я поднимаю труп короля. Может, сплясать его заставить?
И тоже вдруг почувствовал, что меня душит хохот. Истерика.
Я щёку изнутри прокусил до крови, чтобы успокоиться. И у меня был крови полон рот, когда я сжёг Даром свой дурацкий ошейник. А батюшкин ближний круг стоял и смотрел, как освящённое серебро пеплом рассыпалось, с моих плеч сыпется, и как я отряхиваю этот пепел, а он жжёт мне руки.
Я сплюнул кровь – и все посмотрели на красный плевок на полу с ужасом. И я сказал:
– Я – некромант – наследую престол. И приказываю позвать монахов. Слышите?!
В этот раз они расслышали.
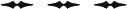
Похороны утомили меня до полусмерти, все силы вытянули.
Погода, помню, стояла мерзкая, тяжёлая такая оттепель, пасмур, сырость, грязь… Тучи прямо на башнях лежали, мокрый снег валил, и воздух был пропитан влагой, как губка… на виски давил. И вся эта мрачная суета…
Маменька ко мне приходила, плакать и молиться. Бранила меня на чём свет – грозилась в монастырь уйти, но не ушла, уехала в дарёное имение. За ней её имущество везли на целом караване повозок. Ей вроде бы теперь полагалось всю жизнь в трауре ходить, но она свои церемониальные тряпки и украшения прекрасно забрала с собой. Несколько сундуков с золотом, бриллиантами и прочим подобным. А нищим опять кидала медяки из кошеля, милосердная моя…
Розамунда очень официально попросила у меня разрешения уехать с моей матерью. Сухо, но вежливо.
– Я полагаю, государь, – сказала, а слово «государь» выделила красным, как в летописи, – что младенцу будет полезнее деревенский воздух. Если, конечно, вы не станете возражать.
Я не стал. В этом был резон. Воздух во дворце действительно…
Я даже не то имею в виду, что отчаянно разило заговорами всех мастей и что мне никто не рвался прийти на помощь – ни канцлер, ни казначей, ни церемониймейстер. Разве только у камергера вроде как совесть проснулась, или он, быть может, перепугался до спазм в животе: простыни мне стали чаще менять, камины топились нормальными дровами, коптить перестали. Даже манжеты с воротниками мне теперь крахмалили по-человечески, а не так, как раньше. Но это мелочи.
Я говорю о том, что спать попросту боялся. Раньше, будучи принцем, не боялся, а теперь был уверен: непременно попытаются прикончить. Смешно было бы, если бы не попытались. Нереально. Но я никого не мог взять в спальню, чтобы согреться живым человеком рядом, и никому не доверял, а гвардии не то что свою жизнь – пустую скорлупу не доверил бы. Вся дворцовая гвардия была куплена – к бабке гадать не ходи. В розницу. Всеми, кто имел хоть воображаемую тень прав на престол.
Верный мой Бернард ничем мне помочь не мог, он даже пугнуть бы никого не мог, невидимый для большинства смертных. Если только разбудить меня, но это же не всегда решает дело: в драке я никогда не отличался, и владеть оружием меня не учили, а Дар спросонья не применишь. Обращаться к Оскару я не посмел. Как-то неловко показалось: Князь, всё брось, беги меня охранять, так, что ли? Он ведь и так ко мне пришёл той ночью, когда отца бальзамировали. Пытался утешать, поцеловал… Милый друг, утешение метели, нежность мороза…
Было моментальное искушение взять Агнессу. Не посмел. Подумал, что непременно захочу дотронуться, дойдёт до поцелуев – и всё, охраны не потребуется. Зачем охрана немёртвому государю…
Не стал рисковать.
Решил играть наверняка: устроить себе охрану довольно радикального толка. Привёл двор в такой ужас, что светские кавалеры не могли шляпы носить: волосы дыбом стояли.
Я поднял шестерых свеженьких светских мальчиков, убитых на дуэлях. То есть таких, которые умели держать мечи, с гарантией. Привёл их во дворец… впервые держал сразу шестерых, думал, будет очень тяжело – но нет, вышло чётко, чувствовал их, как собственные пальцы. Провёл их по всему дворцу – челядь летела во все стороны опрометью, кто-то даже блеванул на пол – и поставил в караул. Двоих у дверей спальни, двоих у окон. Ещё парочку – патрулировать коридор. Земля была мёрзлая, сохранились они славненько и службу несли на зависть гвардии. Я их вооружил, стряхнул плесень с камзолов – очень симпатично смотрелись, если не приглядываться.
Но воздуха они, конечно, не освежали. Я велел открыть окна, но всё равно припахивали. Я уже давно привык, а вот дворцовая челядь…
Моя бельёвщица отказалась в спальню заходить наотрез, пока я оттуда караул не убрал. И то косилась. Но игра стоила свеч: в ночь перед коронацией я проснулся от шума за дверью. Выскочил в чём был – не успел: убийцы уже удрали. А из стражников пришлось кинжалы выдёргивать: их убили ещё по разику, для надёжности, но стояли они хорошо, даже защищали дверь. Неуклюже, да: я ещё не умел лучше. Но выиграли мне время. Молодцы.
К тому же утром я ещё пару стрел выдернул из тех, кто у окна. И подумал, что всё сделал правильно. Разве что одному моему вояке выбили глаз, и я дал ему отставку и уложил в могилу с почестями, а поднял новенького. Так, с мёртвой свитой, и вышел, когда сообщили, что меня ждёт святой отец.
Придворные мои замечательные, конечно, особенного восторга не почувствовали. Сразу схватились за надушенные платочки, и кто-то натошнил под ноги священнику, а кто-то кинулся прочь, натыкаясь на лакеев и колонны. Уже и коронация не нужна, на моих мёртвых ребяток смотреть невмоготу. Троюродная тётушка в обморок хлопнулась: на казни ходила взглянуть, чтоб развлечься, а поднятые мертвецы ей невыносимы, нежной душе.
Мой духовник побледнел, сглотнул, позеленел и выдал вперемежку с тошнотой:
– Государь, да как же вы могли, перед всем двором, перед причтом – и вытащить такую погань?! Священный обряд – и рядом святотатство, осквернение могил…
Я хлопнул по плечу того дружка, на котором трупных пятен поменьше, а на втором задрал рубаху, чтоб показать дыру от кинжала, и говорю:
– А что мне остаётся, святой отче? Изрядная часть здесь присутствующих предпочла бы, чтобы вот эти дырки переместились с его шкуры на мою. Но мёртвому-то всё равно, а мне пока что – нет. Каждый король выбирает себе охрану сам. Вот я и выбрал. Они, святой отче, меня предать не могут. Им нечем. У них душ нет. И я им доверяю.
И пока я это говорил, живые аристократы на меня смотрели бешеными глазами, непонятно, больше от ужаса или от ненависти. А священник оценил раны в мёртвом мясе, старые и посвежее, и только головой покачал. Но не нашёлся что ответить.
Так они меня и сопровождали в храм, а потом на главную площадь. Вместо гвардейцев. Шесть мертвяков в погребальном тряпье, прикрытом гвардейскими плащами. А народ глазел и, как говорится, безмолвствовал.
Ни одна живая душа не вякнула. И коронация прошла без инцидентов, и присяга потом тоже.
В гробовом молчании – но без инцидентов.
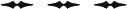
А после коронации и присяги наши отношения с двором забавно изменились.
Ясное дело. Раньше я был опальный принц, а теперь законный государь, какой ни есть. Мне присягнули. А это уже совсем другой коленкор.
Если раньше за моей спиной шипели и плевались, то теперь не смели. Теперь начали пресмыкаться. Выхожу утром, бывало, поздно, потому что уже перед рассветом лёг, а мой камергер, змея, тот самый, растягивает рожу в улыбке, будто он мертвяк и ему приказали улыбаться, и поёт:
– Государь, вы прекрасны! Надеюсь, вы хорошо выспались?
Канцлер с премьером пол шляпами метут. Казначей все тридцать два показывает, глаза дикие, рожа выглядит чудовищно:
– Рад вас видеть, государь. Всегда к вашим услугам, государь.



