
Полная версия
Убить некроманта
К тому же я не мог избавиться от мысли, что ранил Розамунду. Крови оказалось немного, но от тяжёлых ран бывает и меньше. Мне было тошно, жалко, тоскливо, душно, зло, стыдно – короче, я чувствовал что угодно, только не хвалёную похоть.
Мы легли спать, раздвинувшись так, как только ложе позволило. Я слышал, как Розамунда ворочается и всхлипывает, мне ужасно хотелось подать ей руку или сказать что-нибудь доброе, вроде «Не берите близко к сердцу, сударыня», но я уже знал, что это бесполезно.
И сочувствовать ей глупо. И жалеть её глупо. В отличие от меня, она получила то, что хотела.
Розамунда теперь была дама, а я её супруг перед небесами… Теперь лучшее, что я мог сделать для неё – это не лезть с дурацкими нежностями, а немедленно провалиться сквозь землю. Она осталась бы благородной вдовой – и всё было бы просто замечательно. Но я каким-то образом в очередной раз не подох, хотя, кажется, люди должны дохнуть от стыда и вины такой мощи.
Те Самые Силы получили свой сладкий кусок. Теперь надо было как-то жить дальше.

Так и началась эта моя новая жизнь.
Следующий день после свадьбы принёс сплошной позор, а что же могло быть ещё? И через день был позор и была тоска. Но, слава Господу, я выяснил, что мне можно не спать в спальне Розамунды каждую ночь – и мы разошлись жить по разным углам. Это было очень славно, потому что иначе мы бы довели друг друга до сумасшествия.
Так всё и пошло. Розамунда жила в кабинете для рукоделий, там у неё её свита, камеристки, чтица – там ей читали вслух слюнявые баллады о неземной любви и рыцарские романы, в которых у героев дивная стать, а она тем временем вышивала наалтарный покров с ангелочками для дворцового храма.
А я жил в библиотеке. Или на башне. Или шлялся по дворцу, подглядывал и подслушивал – вёл свою обычную жизнь. Меня не посвящали ни в какие дела. Я попытался перед Большим Королевским Советом намекнуть отцу, что не худо бы и меня пригласить, я же наследный принц всё-таки – но он на меня так рявкнул, что у меня отпала охота спрашивать.
– Будешь делать только то, что я велю! Подлый выродок, даже заикаться не смей! – что-то в таком роде.
Я больше заикаться не стал. Я хорошенько рассмотрел помещения, примыкающие к Залу Совета, и нашёл одно с интересным акустическим эффектом. И с тех пор присутствовал, только без лишней помпы. Так появилась ещё одна политическая проблемка, о которой отец не знал.
Я очень внимательно слушал. А после Совета шёл в библиотеку, доставал карты Междугорья и окрестных земель и всё сопоставлял. И ещё у меня был давно украденный из библиотеки трактат Хенрика Валлонского «О разумном управлении финансами» – и я его штудировал не хуже, чем заклинания. Я же отлично понимал: Дар Даром, но деньги тоже нужны.
Книжка была совсем новенькая, когда я её украл. А теперь выглядела довольно неказисто, но зато я мог её читать наизусть с любого места, как Священное Писание. Хенрик Валлонский был мой единственный авторитет кроме некромантов древности.
С помощью этого моего учителя и карт с землеописаниями я потихоньку разобрался во всех политических сложностях. На это уходила адова уйма времени: у меня иногда просто мозги закипали, когда я пытался сообразить, какой тайный смысл заключён в какой-нибудь простой новости и что она даёт, но я кожей чуял, что это надо.
Потому что я понял: никто из вассалов не смел впрямую врать моему папеньке. Но они говорили, чуть-чуть меняя ударения, и он думал, что всё прекрасно, когда вокруг была полная задница. Самые невинные вещи оборачивались самыми подлыми интригами. Три законченных подонка – премьер, канцлер и казначей – обворовывали моего батюшку заодно с Междугорьем так, что комар носа не мог подточить, а всё потому, что они тоже читали старика Хенрика, а батюшка читал «Рассуждения о соколиной охоте» и «Достоинства породистых лошадей».
Я пока ничего не мог сказать. Но я по-прежнему принимал всё к сведению. Я очень уважал этих троих – но тогда был совершенно уверен, что прикажу их повесить, как только надену корону. В казне не хватит денег, чтобы платить им жалованье в тех масштабах, в которых они воровали.
Два или три раза в месяц меня ловил личный лекарь Розамунды, чтобы сообщить, что сегодня её прекраснейшее высочество будет ожидать меня в своей опочивальне. Это были какие-то её особые дни, которые вся эта компания рассчитывала по звёздам или ещё по чему-то – когда мы могли наконец подарить Междугорью продолжение династии. Этих дней я через некоторое время ожидал, как приступов зубной боли, а после них мне снились кошмары, настолько же страшные, насколько и неприличные.
А Дар…
С тех пор как я убил Людвига, все эти серебряные безделушки перестали мне мешать. Я обрёл над Даром абсолютный контроль. У меня пока не хватало фантазии и опыта на то, как его применить, но я уже ощущал смерть всем телом, и она мне подчинялась. Вот кто был моим единственным другом в те поганые времена, когда даже мой собственный камергер – и тот служил мне из-под палки и болтал гадости за моей спиной.
Смерть.
Чем больше я читал, тем более интересные вещи приходили мне в голову.
По приказу моих милых родных бедное тело Нэда – кости с клочьями плоти – бросили в ров, где хоронили казнённых без напутствия Святого Ордена. Я сходил туда ночью и отпустил его душу, привязанную к этой грязной яме. Когда он уходил вверх, я успел ощутить его последнюю улыбку. Это немного меня утешило.
Я ему жизнь спасти не мог, но уж посмертие-то спас – и знаю, что он это понял. И Дар мне после этого стал особенно драгоценен. Лучшая часть меня.
Я бродил ночами по дворцовым переходам и чуял обострившимся Даром места, где была пролита кровь. Несколько раз я отпускал души, привязанные к месту своей насильственной смерти: их убили по приказу моих предков, и, отпуская призраки на волю, я радовался за них и злорадствовал над предками. Однажды, когда часовой заснул, я украл у него ключи и спустился в дворцовое подземелье. В нём не держали узников уже лет двадцать: папенька не любил, чтобы вопли пытаемых мешали ему пировать, так что враги короны переехали в Башню Благочестия. Зато я нашёл тут немало интересного для себя. Дар светил ярче любого факела и высвечивал потрясающие вещи.
Я до такой степени научился общаться с неупокоенными, что поговорил даже со страдающей душой бедолаги, замурованного в стену сотню с небольшим лет назад. Он имел неосторожность прилюдно сказать пару добрых слов о тогдашней королеве – причём святую правду, как я понял. Но ни королева, ни её порфироносный супруг этого ему не простили – именно потому, что это была правда.
Мы с ним посплетничали о королевской власти. И я простил его от имени предков и облегчил ему уход, насколько смог.
Тогда эти бедные души, запертые в кровавых пятнах, в ржавых кандалах и в каменной кладке, казались мне таким явственным отражением моей собственной участи, что хотелось всех освободить. Всех.
Чтобы не слонялись по дворцу, как по тюремной камере. Как я.
Но именно там, в подвале, одна интересная потусторонняя личность встретила меня иначе, чем прочие.
Его звали Бернард. При жизни. Он принёс мне официальную присягу по всей форме, принятой двести лет назад, и стал таким образом моим первым настоящим вассалом – добровольным.
Чудный призрак. Когда он собирался в подобие телесной формы, становился мерцающей тенью сухого сутулого старикашки в берете с пером и старинном костюме – рукава у кафтана вроде кочанов капусты. В своё время он служил по тайным поручениям у тогдашнего канцлера. Совершенно вышесредний был сутяга, наушник, доносчик. В курсе всех дворцовых интриг: кто где, кто с кем, кто о чём болтает…
Его удушили двое придворных его же собственным шарфом тут, в подземелье – он спускался записывать допрос очередного узника и неосторожно зашёл за угол. И больше всего глодало бедолагу, что он уже не смог донести на тех, кто его убил. Не было тогда при дворе некромантов – так что некому оказалось стукнуть. Оттого и душа его не обрела покоя.
Меня же Бернард слёзно просил не отпускать его к престолу Господню – наверное, потому, что от Божьего Суда не ожидал для своей души ничего хорошего. Умолял только отвязать от места смерти. Чтобы он мог бродить, где захочет, и служить мне верой и правдой согласно своей потрясающей, отточенной с годами квалификации.
– Я, – говорил, – ваше драгоценное высочество, теперь-то, стало быть, могу куда как больше пользы короне принести. Я же теперь и через дверцу, и через стеночку – в любую щёлку пробраться могу. Коли бы мне суметь из подполья-то выйти, уж я бы вам, ваше высочество, на всё раскрыл глаза-то. Людишки-то, чай, вовсе избаловались без пригляду. Вот кабы мне раньше этот талант иметь, ужо пакостники-то не обрадовались бы: злодей-то, чай, думает, что на него и управы нет, ан управа-то – вот она… А для себя-то мне ничего уж не надобно – лишь бы всё по закону состояло…
И хихикал. Душка. Только сильно убивался, что ручку мне облобызать не может.
Я его отвязал. И даже пожаловал придворную должность – шеф Тайной Канцелярии. Уж моя-то Канцелярия получилась самая Тайная из всех мыслимых: Бернард вокруг себя шума не устраивал и мало кому показывался. Отчасти из-за того, что силёнок у него было не в избытке, отчасти – по профессиональной привычке. Не стонал, не вопил, цепями не гремел – о нём мало кто знал, и нам это оказалось на руку.
Старик даже прослезился, когда я ему сообщил своё решение. Бумагу с моей подписью и гербовой печатью о вступлении Бернарда в должность я ему, конечно, отдать не мог, – как бы он её взял, – но составил по всем правилам, показал ему и спрятал у себя. Старик обожал всю эту канцелярщину, стоило ж сделать приятное своему приближённому.
И меня он действительно любил. Призрак некроманта обмануть не может: сколько при нём души осталось – столько он мне и отдал. Наверное, при жизни был законченным подонком… но и при жизни в нём это водилось: преданность долгу и умение быть благодарным. Не так уж много, конечно, но мне и этого хватило: у меня не было преданных живых, я был готов привечать преданного мёртвого.
Так я приобрёл дополнительные глаза и уши, а заодно собеседника и советника с бесценным опытом по части дворцовой интриги. Душа Бернарда теперь слышала мой зов, вернее, призыв моего Дара, где бы ни находилась, и по зову навещала моё убежище на башне. Я наслаждался разговорами – старикан любил рассказывать и рассказывал весьма захватывающе. Сижу, бывало, вечером на охапке соломы, у бойницы, – свет из неё красный, закатный, ветреный, – а Бернард рядом, еле-еле виден, будто грифелем на стене нарисованный. И не спеша так излагает:
– …дядюшка-то ваш, принц Марк, по братце-то вашем не больно сокрушается. Своими ушами слышал, как он вашему кузену-то да своим баронам говорил, что, мол, теперь самое время настало выжидать да надеяться. Мол, маменька ваша, ваше высочество, другого сынка по слабости своего здоровья представить не сможет, а вы, ваше высочество, у государя не в милости. Ведь намекал, пакостник, чтоб своего щенка в обход вашего высочества на трон взгромоздить – так-таки и сказал, не посовестился…
В общем, я потихоньку с помощью Бернарда весь двор разделил на настоящих врагов, пассивных врагов и недоброжелателей. Друзей у меня не было: Бернард утверждал, что обо мне никто не говорит хорошо за глаза, и я знал, что он прав. Я не питал иллюзий – общее пугало, некромант, выродок, урод, проклятая кровь – и только собирался принять меры, чтобы не подвернуться под яд или нож до того, как Та Самая Сторона начнёт выполнять обещание.
Я ещё не понимал, что обещание уже потихоньку выполняется…

А Розамунда, несмотря на все наши тошные усилия, никак не становилась беременной – и батюшка, если я случайно попадался ему на глаза, орал на меня. Проклятая кровь, не угодно ли, мёртвое семя, какой я мужчина, чем мы занимаемся, я буду виноват, если род пресечётся. Через некоторое время я все эти перлы уже мог наизусть цитировать – но мне тут было ничего не изменить. Розамунда мне тоже говорила: «Вы же понимаете, что должны?» – будто моё понимание что-то решает.
Предполагалось, что я терзаю Розамунду своими нечистыми страстями. На самом деле я отрабатывал супружеский долг, как мужик – барщину, не становясь ближе к жене ни на ноготь: теперь она ненавидела меня ещё и за то, что не становилась полнее. Она была ослепительно прекрасна; я казался себе идиотом, влюблённым в алебастровую статую, каким-то грязным волшебством обученную отпускать колкости, когда этого меньше всего ждёшь.
А батюшкина свита шепталась: не дай Бог, деточка унаследует моё проклятие. И меры принимали со страшной силой: вся наша супружеская спальня была завешана ладанками из святых мест, под подушками лежала и воняла освящённая лаванда, на половине Розамунды поселился её духовник… Он даже подряжал монахов петь благословения и молитвы прямо ночью, когда я к Розамунде приходил, но это было выше моих сил. Я съязвил, что вместе с прочим нечистым сбродом святые люди изгоняют и меня, Розамунда немедленно всем это разболтала, духовник обозвал меня неблагодарным и маловерным – но хоть от молитв по ночам я избавился.
Уже хорошо.
Прошёл год, прошёл второй, третий приходил к повороту, на мою голову уже сложили все ругательства, какие знали, – но моя прекрасная супруга наконец всё-таки начала полнеть.
Мне сказали: «Первый раз от тебя забрезжила какая-то польза».
Я тихо обрадовался. Я надеялся, что от меня отстанут – и отстали. Теперь занимались Розамундой. Маменька взяла её жить в свои покои, вокруг неё всегда толпились дамы и повитухи. Я подумал, что Розамунда в какой-то степени заменила маменьке Людвига. А может, маменька ожидала, что моя жена родит ей нового Людвига, не знаю.
Я же очень продуктивно проводил время. Я учился.
Учителей у меня не было уже давно. С тех пор как я прикончил гувернёра, придворные профессора и мудрецы ко мне в наставники не рвались. А батюшка решил, что если уж я умею читать-писать, то большего и не надо. И так от меня одна головная боль – а вот буду ещё слишком умным…
Поэтому я до всего доходил сам. Дар много помогал. Дар и чутье. Но я всё-таки понимал, что, будь у меня учитель, дело шло бы куда быстрее и толковее. Я ведь совал нос во все книги подряд: что казалось непонятным – откладывал, выбирал что поинтереснее, начинал ставить опыты, соображал, что не знаю самого главного, – и снова лез туда, где сложно… Иногда впору было рыдать без слёз и волосы на башке драть – так это оказывалось тяжело.
У меня, к примеру, в семнадцать на руках живого места не было – я учился поднимать мертвецов проклятой кровью. Удирал ночью на кладбище Чистых Душ, благо от дворца четверть часа быстрой ходьбы, искал Даром могилу посвежее, рисовал знаки призыва, резал запястья, обращался к Той Самой Стороне, капал кровью на вскопанную землю…
Когда первый труп встал – у меня от радости дыхание спёрло. Будто весь мир подарили. Могу! Додумался! Сил хватило! Прости Господи, извините за подробности, просто расцеловал эту квёлую бабку, которая мирно опочила, наверное, от старческих болячек. Ничегошеньки она не могла – поводила мутными гляделками туда-сюда и покачивалась, пока я танцевал вокруг неё; приказов не слышала и не понимала – но она всё-таки встала, а потом легла на место. Я был такой счастливый…
Наверное, мои упражнения кто-то видел. Слухи обо мне пошли гадкие запредельно – все старые сплетни теперь просто в счёт не брались. Болтали, к примеру, что я забавлялся с трупами девиц. Честное слово, мне это и в голову не приходило, мне хватало вполне освящённых церковью забав с холодной, как покойница, супругой. Да, я в то время готов был переселиться в избушку кладбищенского сторожа, чтобы вообще с кладбища не вылезать, да, у меня порезы на руках не успевали заживать – но чтобы обольщаться сомнительными достоинствами мертвецов… Да идиоты! Когда кто-нибудь из рыцарей днюет и ночует в конюшне, про него почему-то не говорят, что он справляет грех с кобылами.
Поднятых трупов непосвящённые жутко боятся – никогда не понимал, с чего бы. При дворе болтали об оживлении, о том, что трупы вожделеют к живым женщинам, что будто готовы разорвать на куски и сожрать каждого, кто их увидит… Ну не бред?! Ничего они не хотят, тем более всяких любовных глупостей. И есть не могут: как они, интересно, переварят пищу, мёртвые? Поднятый труп – просто машина, часовой механизм, который заводит Дар, марионетка, которую я дёргаю за ниточки. Некромант может им управлять, руководить, но сам труп – просто вещь, как любая вещь. Душа его уже далеко, и на душу это никак не влияет, как на голову живой девицы не влияет то, что из её остриженных волос сделали шиньон и кто-то его носит.
Нет, кусаться труп можно заставить. Зубы же у них есть, если при жизни от старости не выпали. Только мертвецу ведь всё равно, терзать кого-то или репку сажать. Мёртвым телом, как мужики говорят, хоть сарай подпирай. Но простые объяснения никого не устраивают. Всем кажется, что некромантия – дело страшное и таинственное, поэтому даже самые обычные процедуры в ней тоже таинственные и страшные. А в страшные сказки верится легче и охотнее, чем в будничную быль.
Некромантия считается злом. А по мне, любое знание, хоть тайное, хоть явное, – не зло и не добро. Оно как меч, смотря кто его держит и против чего направляет. Убить можно и молитвенником, если умеючи взяться. Но это рассуждение граничит с ересью, поэтому никто и никогда не принимал его в расчёт.
Меня окончательно окрестили Кладбищенским Грифом. И всё время норовили намекнуть, что от меня мертвечиной несёт. А может, иногда и несло… бывало, придёшь на рассвете, вымотанный, будто на тебе поле пахали, руки болят, голова чугунная… завалишься спать в башне в чём есть – и когда потом идёшь мыться и переодеваться, то действительно не розами благоухаешь. Но ведь кто чем занят! От мужиков навозом пахнет, от рыцарей – лошадьми, от егерей – зверинцем, от ловчих – псиной – и никто им этим в глаза не тычет. Только я ведь некромант! Я оскверняю могилы! Я нарушаю благородный покой умерших! Я – святотатец!
А они – святые.
Честно говоря, я не слишком ко всему этому прислушивался. Я занимался тяжёлой, запредельно грязной работой и чуял, что когда-нибудь это очень и очень пригодится. Просто знал. И делал. И всё.
А то вот ещё вспомнил – забавно. Помню, зимой – мне восемнадцатый год шёл – кладбище замёрзло, поднимать из-под снега тяжело и холодно, так я не постоянно там ошивался. Находил себе занятия в тепле, чтоб и в сосульку не превратиться, и опыт не растерять. Так вот эти ослы из ночного патруля меня увидали – как я поднял скелет из-под половиц в нежилом флигеле и заставляю его плясать. Ух, какие были глаза у дуралеев! С яблоко. Странно, что вообще не выскочили.
Потом от меня неделю все придворные шарахались, как от чумного. А Бернард мне рассказывал, что болтают, злил меня, смешил… А я только радовался, что поднял такой старый труп: сложно сделать так, чтоб он не рассыпался по дороге. Весёлое было время… Вот как раз тогда примерно Розамунда родила.
Сына. И его, натурально, назвали Людвигом. Я был против, но меня никто не спрашивал. Как водится.
Мне его показали один раз и унесли, будто я могу его перепачкать взглядом. Чистенький младенчик. Без меток проклятой крови.
Двор ужасно радовался. Господь милостив, чудо явил: у младенца все достоинства благородных предков и прекрасной принцессы – совершенно без моих недостатков. Не зря они все молились и старались. Праздники продлились две недели, денег бухнули – как на серьёзную войну… Столичная голь перепилась на дармовщину, орала «Слава принцессе!»… Меня вычеркнули.
Я не участвовал. Да меня и не приглашали.
После родов моя прелестная супруга меня в опочивальне принимать не могла: поправляла здоровье. Ну и слава Господу. Я к ней днём зашёл. Принёс ветки рябины с замёрзшими ягодами и сосновые ветки. На удачу. Она это всё швырнула на пол и сказала, чтоб я убирался к своим гнилым дружкам на кладбище.
И я убрался к гнилым дружкам. И неожиданно обзавёлся настоящим другом.
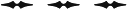
Ночь, помню, стояла морозная: дышать больно, всё внутри смерзается. Полнолуние. Красиво так: снег блестит, как парча, деревья все в инее, памятники на могилах тоже в инее, этакое парадное убранство. Я ещё подумал: будто важных гостей ждём. Как в воду глядел.
Важный гость вышел из тени старого склепа и ко мне… не пошёл, нет – потёк, поплыл, как хотите. Так ходят кошки, змеи ползают, но люди так не передвигаются, точно… Я моментально сообразил, с кем имею дело: Дар на него отозвался, как струна на камертон, чистым, точным, нежным звуком.
Я стоял, – сердце рёбра ломало, – задрав подбородок, руки скрестив, ждал, когда он приблизится. А он поклонился так, что снег обмёл локонами. Потом поднял голову – и я с ним встретился взглядом.
Тёмные горящие рубины. Всевидящие очи Князя Сумерек.
Я протянул руку, – ни в чём не был уверен, но блюл ритуал, – и он обозначил поцелуй. Руки у меня замёрзли, без перчаток, чтоб чужая кожа не мешала в работе, но уста у него были холодней самого мороза, холодны смертным холодом. И в меня влилась его Сила через это лобзание: если мой Дар похож на бушующий адский огонь, то его Сила показалась чем-то вроде ледяного ветра, втекла в мою душу, смешалась…
Я тогда почувствовал такое запредельное блаженство, что закричать хотелось. И такую мощь, что, кажется, резани я сейчас запястье – всё кладбище встанет, а заодно призраки, демоны, нечисть ночная, в ком больше мёртвого, чем живого… все преклонят колена. Меня в жар бросило, несмотря на мороз.
И тут он молвил – голос низкий, нежный, медовый, до самого сердца:
– Я вас приветствую, ваше высочество. Сумерки вас приветствуют. Моё имя – Оскар.
У меня в горле пересохло. Еле выговорил: «Здравствуйте, Князь».
А он продолжает:
– Мы давно видим вас за работой, ваше прекрасное высочество. Вы до сих пор не обращались к Господам Вечности, занимаясь другими, безусловно, более важными делами, – и я взял на себя смелость привлечь ваше просвещеннейшее внимание к вашим неумершим подданным. Покорно прошу простить меня.
Я тем временем взял себя в руки, отдышался – и говорю:
– Я рад, что вы со мной заговорили, Князь. Это у меня промашка вышла. Мне давно надо было побеседовать… с кем-нибудь из ваших… товарищей. Но я только пытаюсь учиться…
Тогда Оскар мне улыбнулся, как люди никогда не улыбались, кроме Нэда, может быть, и сказал:
– Ваше высочество, вам не в чем себя упрекнуть. Вы юны, а в городе нет ни одного некроманта, который мог бы хоть отчасти помочь вам в постижении тайн вашего Дара, к тому же, насколько нам известно, смертные весьма мешают вашим поискам сокровенного знания. Я – один из старших Князей Междугорья – покорнейше прошу вас, ваше высочество, позволить мне чуть-чуть, в меру моих скромнейших сил и ничтожных познаний, возместить вам отсутствие наставника-человека…
Как я его любил в тот момент, как был ему благодарен – нет слов описать. Я бы ему на шею бросился, не будь он таким невероятно церемонным. Милый Оскар, замечательный неумерший, просто вот так пришёл и подарил. Мне так редко делали подарки – я бы отдарился чем угодно.
Я ему сказал:
– Дорогой Князь, я буду счастлив воспользоваться вашим предложением… может, я могу что-нибудь для вас сделать?
Оскар тряхнул тёмными кудрями, улыбнулся. Только клыки в лунном свете блеснули, крохотные кинжалы, отлитые из сахара.
– Ваше высочество, ваше общество и ваше доверие – такая неописуемо огромная честь для меня, а близость вашего Дара – такое редкое наслаждение…
Тогда я подумал: он хочет греться моим огнём. Нормальное желание – погреться. Я ему это с удовольствием устрою. Я это очень хорошо понимаю.
И в его речи нет никаких двойных подкладок. В любом трактате по некромантии подчёркивается: мёртвые не лгут. А неумершие не лгут своим сюзеренам.

Потом много болтали, что я поил вампиров кровью детей своих врагов. Ещё одна глупая ложь, и распространить её мог только олух, который ни малейшего представления не имеет, что за существо такое – неумерший. Вечные, конечно, называли себя моими вассалами, но были-то ими чисто номинально. Я сильнейший некромант на территории государства, в котором они обитают, поэтому теоретически их государь. Но я им никогда не приказывал.
Трупам нужно только приказывать, демонам можно приказывать с оглядкой на казуистику Той Самой Стороны, иначе твой приказ тебе же и выйдет боком, а мелким тварям вроде упырей имеет смысл приказывать, повышая голос. Но совершенно невозможно приказывать Вечным Князьям, Господам Сумерек. Это всё равно что попытаться приказать смерти, кого ей забрать, а кого оставить.



