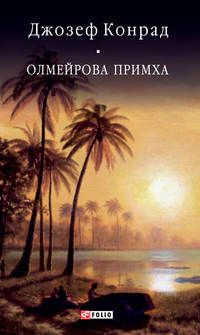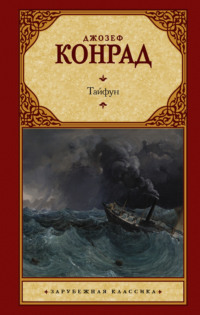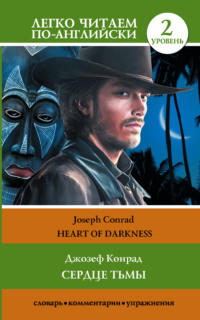Изгнанник. Каприз Олмейера

Полная версия
Изгнанник. Каприз Олмейера
Язык: Русский
Год издания: 2024
Добавлена:
Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу