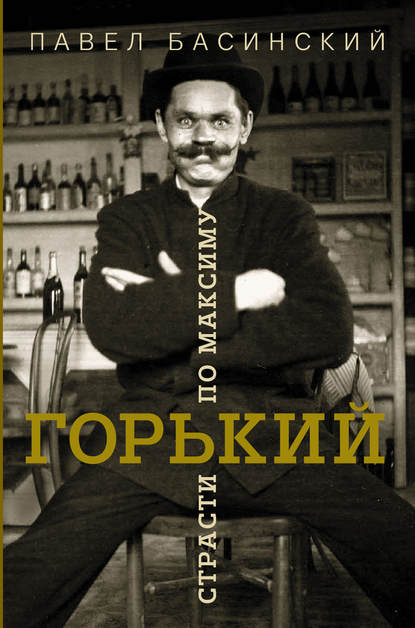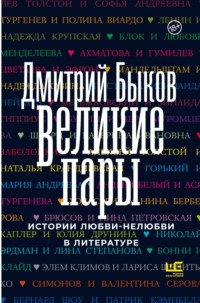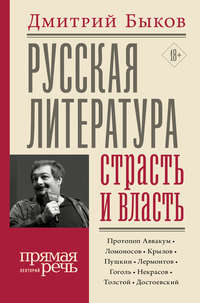Владимир Маяковский: тринадцатый апостол. Трагедия-буфф в шести действиях

Владимир Маяковский: тринадцатый апостол. Трагедия-буфф в шести действиях
Жанр: биографии и мемуарылитературоведениепублицистикарусские поэтысоветская поэзияВладимир Маяковскийреволюционная поэзияфакты биографиифотоархив
Язык: Русский
Год издания: 2023
Добавлена:
Серия «Литературные биографии»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента