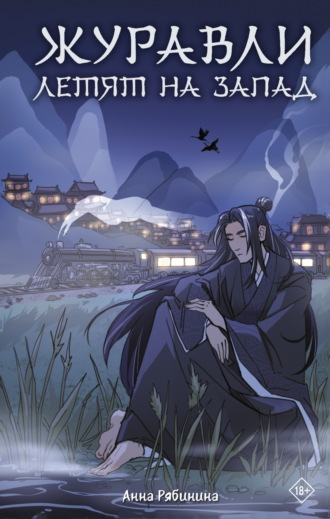
Полная версия
Журавли летят на запад
– Я просто сменю имя, – отвечает он в итоге. – Называй меня, пожалуйста, господином Эром.
– А ты не слишком маленький, чтобы тебя господином называть? – смеется Яо Юйлун. Ну конечно, она старше его почти на пять лет, но, как говорит Джинни, по сознательности там разница идет на столетия.
– Для твоего сына буду достаточно старым, чтобы он называл меня именно так.
Яо Юйлун легонько щелкает его по лбу.
– Такой молодой, а уже вредничаешь и хочешь обманывать моего сына.
– Защищать, а не обманывать, – возражает Жильбер, и в ответ на это Яо Юйлун только хмурится. Жильбер знает – она не одобряет большую часть его решений, как и нежелание больше видеть Мэя, но страх, что колко ворочается в груди, сильнее.
Как же это жалко – поменять имя, чтобы он не мог его найти, но оставить тоненькую ниточку, узкую дорожку, это «Эр» от настоящего имени, будто в надежде, что Мэй согласится найти его сам.
Ну так и пусть ищет! Не Жильбер же виноват, что они рассорились.
– Не от колдовства нужно защищать людей, – мягко возражает его мыслям Яо Юйлун, будто прекрасно знает, о чем он думает.
– Оно тоже опасно.
– Только если сделать ему больно, – глаза Яо Юйлун кажутся совсем темными, как ночное небо в шторм, и на пару мгновений Жильбер даже пугается – что она еще ему скажет? За что упрекнет? Но Яо Юйлун только переводит разговор на другую тему, – когда А-Жун уезжает?
А-Жун – она же Джинни, она же Вирджиния. Жильбер так до сих пор и не понял, то ли Яо Юйлун правда не могла выговорить ее имя, то ли не хотела, то ли ей просто нравилось дразнить суровую, холодную Джинни, называя ее веселым, ласковым А-Жун.
– Сказала, что через неделю.
– Хорошо, – кивает Яо Юйлун. – И куда она?
– В Россию.
Яо Юйлун кивает еще раз.
– Она сказала, что больше сюда не вернется, – вдруг говорит Яо Юйлун, чуть подумав. – Давно еще, может быть, конечно, передумала, но мне кажется, что нет.
А вот этого Жильбер не знал. Сердце снова колет ощущением потери – таким же, как тогда, когда он попытался уплыть обратно во Францию.
– Ну, она же у нас любительница путешествовать, может быть, и вернется.
– Если будет, куда возвращаться.
Да, все же Жильбер – никудышный умелец поддержать. Либо дело в том, что поддержка Яо Юйлун не нужна. Она спокойно смотрит на него, гладит Сунь Аня по голове, чуть покачивается, баюкая его. Женщина, которой не нужно сочувствие. И печаль его, Жильбера, тоже не нужна.
Может быть, поэтому Вирджинии она нравится так сильно – ей, в отличие от Жильбера, не нужна опора. Она сама – самое сильное, самое крепкое дерево, что не согнется ни под каким ветром.
Джинни находится в своей комнате – туда Жильбер отправляется почти сразу после разговора с Яо Юйлун. Благо идти недалеко – эти двое всегда живут рядом, будто им так удобнее болтать по ночам и обсуждать какой он, Жильбер, бесполезный.
– Почему ты не сказала мне, что больше не вернешься в Китай? – выходит жалко. С отчаянием.
– Потому что последние два месяца ты только и говорил о том, что хочешь сам уехать обратно в Париж, тогда какая тебе разница? – понятно, она тоже злится на него за то, что он никак не может решить, что ему делать дальше. Что ж, сегодня у тебя день получения нагоняев от женщин, терпи.
Здравый смысл говорит, что у него такой каждый день, но Жильбер старается эту мысль прогнать.
– Я передумал.
– Я так и поняла, – кивает Джинни.
– А как же Яо Юйлун?
– Что с ней? – Джинни чуть недовольно хмурится. – У нее родился сын, наконец-то свалил куда-то муж, жизнь только налаживается, что за нее переживать?
Она не переходит на французский вслед за Жильбером, продолжает отвечать на китайском, будто хочет показать – у нее от Яо Юйлун нет секретов, пусть ветер донесет эти слова до нее, и та все узнает.
– Ты думаешь, Сунь Чжан не вернется?
– Было бы хорошо, если нет.
– Ты жестокая.
– Это он жестокий, а я справедливая.
Жильбер мог бы сказать, что это одно и то же, но знает, что за такое его и по голове побить могут, поэтому благоразумно молчит.
– И чем ты будешь заниматься в России?
– Не знаю пока, – пожимает плечами Джинни. – Заниматься изучением народов Сибири. Или найду себе красивого умного профессора, сделаю вид, что хочу стать его женой, и буду использовать его библиотеку и деньги для своих занятий.
– Профессора редко бывают прям красивыми, – ядовито замечает Жильбер.
– Значит, жену профессора и подружусь с ней, – весело подмигивает ему Джинни.
Жильбер вздыхает.
– Это значит, что мы больше не увидимся?
– Ну зачем так плохо! Увидимся еще, может быть, просто потом, однажды же ты проживешь свою печаль и вернешься во Францию, я, может быть, тоже. – Как у нее все просто!
– Если не найдешь себе профессорскую жену?
– Именно! – воодушевленно кивает Джинни. – Видишь, ты уже проникся идеей.
А потом она раскрывает руки и тянет его к себе.
– Мне не пять лет, – упрямо возражает Жильбер.
– Конечно, – соглашается Джинни. – Пока только три годика.
И он правда опускается на пол рядом, кладет голову ей на колени, как в детстве, когда он пугался кошмаров и прибегал к ней в комнату, плакал, просил посмотреть, нет ли в комнате монстров. Вот и сейчас – просит защиты, хотя и знает, что Джинни откажется его защищать со словами, что он сам во всем виноват.
Она запускает пальцы в его волосы и мягко их гладит.
– У тебя появилась седина, – тихо говорит она.
– Правда?
– А вроде бы еще так рано.
Она гладит его по лбу, носу, потом целует куда-то в макушку.
– Останься пока тут, помоги Яо Юйлун, может быть, тебе понравится дружить с ее сыном. А потом посмотришь, куда можно податься.
– Я не хочу больше быть священником, – Жильбер выдыхает. – У меня не получается.
– Ну так не будь, – легко предлагает Джинни. – Не думаю, что кто-то сильно расстроится, я маме еще тогда говорила, что из тебя священник, как из меня оперная певица. Да и смысла в этом уже особо нет, сколько воды утекло.
– Правда? – искренне удивляется Жильбер.
– Правда.
– Так это же ты и предложила меня отправить в монастырь.
– А ты хотел, чтобы про тебя и дальше по всему Парижу слухи ходили? Но вообще изначальный вариант состоял в том, чтобы отправить тебя в деревню к нашим родственникам.
– Какой ужас, – Жильбер представляет себе жизнь, в которой пришлось бы вставать в шесть утра, терпеть сотню людей в доме, сплетни, еще более ужасающие своими подробностями, чем в городе, сватовство на каждой встречной девушке, и соглашается, что Джинни еще поступила милосердно.
Джинни приглушенно смеется.
– В итоге-то ты и так оказался в деревне.
– Яо Юйлун сказала, что хочет переехать в город. Даже уже начала решать, куда будет лучше.
– Ну вот видишь, и как она этим сама будет заниматься?
– Так осталась бы и помогла.
Джинни вздыхает.
– Не стоит. Правда.
Жильбер прекрасно знает, что она сейчас ему скажет – что он ребенок, который цепляется за игрушки и не хочет ими делиться. Что он собирает вокруг себя важных людей и держит их за руки, лишь бы не сбежали, и не понимает, что они хотят другой жизни. Что он не умеет осознавать, чего хотят другие люди. Джинни ему все это уже говорила – когда он плакал у нее на плече чуть меньше года назад и говорил, что ненавидит Мэя, что тот испортил ему всю жизнь, что стоило спокойно жить в одном месте и никого не трогать.
И еще раз, когда привела его знакомиться с Яо Юйлун. Представила их, сказала, что Яо Юйлун – ее старая подруга, что ей нужна помощь. Жильбер тогда отказался, сказал, что не станет, а Джинни вцепилась ему в руку, так, что остались синяки, и попросила наконец-то перестать быть глупым ребенком.
Он старается. Честно.
– Пообещай, что будешь писать, – просит он.
– Обязательно буду.
– И что приедешь в Париж.
– Приеду.
– Ты врешь.
Джинни вздыхает.
– Я просто пока не знаю, что будет. Ты же знаешь, что снова возникли какие-то проблемы в Османской империи? Я надеюсь, в этот раз не дойдет до войны, но если дойдет, это же столько проблем.
– Так обычных людей-то это едва ли затронет, – пожимает плечами Жильбер. – Что, тебя не пустят домой, сказав, что во всем виновато то, что Англия с Россией договориться не могут?
– Пустят, конечно, – соглашается Джинни. – Но ведь все равно в этом ничего хорошего нет, это просто некрасиво – метаться между двумя странами, которые воюют.
– А, то есть ехать в Россию из Китая тогда можно?
Джинни хмыкает.
– Сейчас у нас все хорошо. Ты знаешь, вот прямо недавно же торговый договор какой-то заключили.
– Ну конечно.
Джинни молчит несколько минут, а потом еще раз гладит его по голове.
– Если я смогу, я приеду. Правда. Но и ты должен мне пообещать, что сбережешь себя, вернешься домой, когда решишь, что пора, и не ввяжешься больше ни в одну странную историю.
– Постараюсь.
– Хорошо, – Джинни легко щелкает его по лбу, а затем толкает в плечо, прося подняться. – Я пойду к Яо Юйлун, послежу за Сунь Анем, пусть она отдохнет.
– Только это была не странная история, – решает все же оскорбленно заспорить Жильбер, на что Джинни только смеется.
– Полагаю, ты знаешь лучше.
* * *Все действительно началось, когда Сунь Аню был один год, поэтому вполне закономерно, что он мало что помнит. Точнее, ничего. Когда все закончилось, ему было тринадцать, поэтому в каком-то плане детство в его голове слилось в сплошные суматоху, шум и кровь.
В их семье всегда были лояльны императору – в конце концов, они были богаты, уверены в своем будущем и совершенно точно не желали каких-либо перемен. Потом господин Эр объяснит ему, что таких, как его отец, китайцев, маньчжуры купили – как покупают игрушки, пообещали деньги и стабильность, а потому они и не пошли за восставшими. Сунь Ань провел первые пять лет жизни в богатстве, вечной суете вокруг, полном равнодушии родителей и трескотне служанок. Они говорили что-то про захваченные города, про новые порядки, про Небесное царство, а мать презрительно кривила губы, когда видела на улице христиан. Сунь Ань не понимал, почему те ей не нравятся, хотя его тоже пугал их бог – изможденный мужчина, прибитый к кресту, – которого носили на шее.
Его мать была строгой, молчаливой женщиной, и от нее он запомнил ярко только холодные дорогие заколки, держащие ее прическу, они блестели, поэтому он любил ими играть, а отца он помнил совсем плохо. Знал, что тот есть, но мать редко о нем вспоминала, кривила губы, злилась, говорила, что тот уничтожит семью, что игры в революцию – просто несбывшиеся сказки, только вот в том, как нервно дрожали ее руки, даже маленький Сунь Ань научился различать тревогу. Мама за кого-то боялась, мама иногда пропадала где-то неделями, а ступни ее ног, когда она бежала за ним маленьким по дому, были большими, шумными, широкими, совсем не как у других женщин, каких Сунь Ань видел на улице, покачивающихся на маленьких ножках, как цветы на стеблях.
Когда он мысленно возвращался к тем событиям, то понимал, что потерял какой-то важный кусок, и знал, что где-то между блеском маминых украшений и криками на улицах было много других воспоминаний, все его детство, но, как ни копался он в голове, их найти так и не удалось.
Его мир пылал и кричал, люди гибли, Небесная империя рушилась сначала едва заметно, потом сильнее, но Сунь Ань и об этом помнил очень мало. Франция тоже рушилась, годами, которые Сунь Ань в ней прожил, но почему-то продолжала крепко стоять на ногах. Как Прометей, которому выклевывали печень, а потом та отрастала, чтобы ее выклевали снова.
Господина Эра его мама не любила, и Сунь Ань не помнил, почему. Может быть, слово «нелюбовь» тоже было слишком простым, как и все, что касалось матери, слишком легко объясняющим многое. Мать же состояла из полутонов и недосказанностей, но Сунь Ань знал – что-то случилось, что-то разломалось, раскололось. Он просто всегда это знал – как знал и то, что, если бы не это, он смог бы относиться к нему лучше. Но между ним и доверием к господину Эру всегда лежали скривленные губы матери, означавшие, что ее что-то не устраивает. Она редко говорила об этом вслух, но всегда четко давала понять. Чжоу Ханя это, кстати, невероятно раздражало – не то, что мать Сунь Аня была молчаливой, а что он перенял от нее эту любовь к молчанию, когда плохо, и картинным обидам, когда люди должны догадаться обо всем сами.
Господин Эр учил его истории, французскому языку и литературе. Истории – контрабандно, потому что и мать считала, что иностранец никогда не расскажет про империю так, как нужно. Удивительно, что его до сих пор не выгнали из Нанкина – хотя тут даже не позволялось жить иностранцам и в лучшие времена, что уж говорить про времена Тянцзина[3].
Впрочем, господин Эр и не рассказывал. Он говорил про французских королей, построивших дворец в лесах, про английских рыцарей, нашедших меч в озере, про русских царей, построивших город на воде, господин Эр не любил историю их империи и редко про нее говорил, только сказки ему нравились – про лисиц с кучей хвостов, про глиняную армию старинных императоров. А Сунь Ань слушал и никому не рассказывал про то, что знает об этом.
– А мама знает сказки про девочек-лисичек? – спрашивал он, сидя на стуле и болтая ногами.
– Думаю, что знает, – улыбался господин Эр. Он всегда говорил только на французском, а вот у Сунь Аня получалось невероятно плохо, понимать-то он еще понимал, а вот отвечать никак не выходило, язык словно в трубочку сворачивался.
– А верит?
– Взрослые не верят в сказки.
– Но я взрослый и верю, – возражал Сунь Ань.
– Не все взрослые такие.
И это оказывалось очень грустно. Маме было гораздо интереснее ругаться на иностранцев, таких, как господин Эр, только, видимо, еще хуже, да обсуждать сплетни с подругами и вышивать. Она редко спрашивала у отца, что происходит в городах, а тот никогда не рассказывал сам, только хмурился с каждым днем все сильнее. Сунь Ань не знал, с чем это связано, только видел, как солнце становится все краснее, словно наливается кровью, хотя мама считала, что ему только кажется.
Отец приходил очень редко – Чжоу Хань потом объяснил, что в их квартал мужчин не допускают[4], а господина Эра за то, что он остался в Нанкине, чуть не казнили. Но не смог объяснить, почему. «Может быть, потому что он иностранец», – шепотом как-то предположил Чжоу Хань. – «А маньчжуры им не нравятся сильнее, вот на господина Эра сил не хватило… Это как пытаться решить, во что играть: в воздушного змея или в мячик. В змея-то интереснее».
Иногда по вечерам мама разговаривала с кем-то в полной тишине, и Сунь Ань думал, что она проклинает Хун Сюцюаня[5].
– А когда я вырасту, я стану таким же грустным? – спросил он однажды у Чжоу Ханя, когда они вместе сидели под забором и ели ворованную вишню.
– Мне кажется, нет, – ответил тот.
– Хорошо бы.
– Тебе они кажутся грустными?
– А тебе нет?
– Не знаю. Мне кажется, они все чего-то ждут.
Сунь Ань думал об этих словах весь день и пришел к выводу, что это какая-то глупость – ну чего взрослые могут ждать? У них и так все есть: возможность решать, что они хотят на завтрак, возможность выбирать одежду и людей, с которыми они хотят жить. Сунь Ань серьезно пытался решить, с кем бы он хотел остаться, если бы его спросили? Конечно, с мамой – та была строгой, но любила его, а еще с Чжоу Ханем и господином Эром. Разумеется, с ними, ведь у Сунь Аня и были только они. Еще был отец, но он так редко его видел, что отец походил, скорее, на героя сказок – могущественного даоса, знающего секрет бессмертия и приходящего домой только иногда, увидеть, что у них по-прежнему все хорошо.
Была еще Ван Сун – еще одна ученица господина Эра, которая, как и сам господин Эр, очень сильно не нравилась маме. Та даже запрещала с ней играть, но иногда они все же разговаривали – на улице или через калитку. Ван Сун была младше его, но он не знал, насколько сильно. Она была худенькой и высокой, не очень красивой и болтливой. Сунь Аню очень нравилось ее слушать – она злилась и рассказывала сказки про Небесную империю, а он потом пересказывал их Чжоу Ханю.
– Я не скажу тебе, откуда я, – смеялась Ван Сун. – Ты еще маленький.
– Я старше тебя, – возражал Сунь Ань.
– Но до такого ты еще не дорос.
Сунь Ань обиженно кривил губы.
– Сестричка говорила, что женщины всегда знают больше мальчишек, – объясняла Ван Сун. – Потому что мы все связаны ниточкой, тянущейся от первых древних богинь – они защищают нас и дают свои знания.
– Только у вас такое есть? – подозрительно спрашивал Сунь Ань. – А как зовут богиню?
– Нюйва, – нараспев говорила Ван Сун. – Она создала наш с тобой мир.
– И прямо со всеми вами связана? Ты это чувствуешь?
– Я не знаю, – пожимала плечами Ван Сун. – Сестричка говорила, что почувствую, когда стану старше – у меня польется кровь, и так я узнаю, что стала частью нашего общества.
В общем, Ван Сун была странной, но интересной. Хотя почему была, она и осталась.
Сейчас Ван Сун сидит за столом в вагоне, закинув ногу на ногу – нагло, вызывающе – и сверкает глазами, широко улыбаясь. Сунь Аня пугают ее улыбки – опасные, не искренние, такие, будто она уже придумала десять проклятий, после которых его не найдет ни один парижский жандарм.
– Ты до сих пор тут, – разочарованно говорит она.
– Мне нужно было исчезнуть?
– А ты умеешь?
– Нет, – признает Сунь Ань.
– А жаль. – Вот и поговорили.
– Я знаю, что ты злишься, – начинает он, а Ван Сун смотрит на него так, что становится понятно – еще одно слово про злость, и она распилит его взглядом, так, что останутся только рожки да ножки, хотя не факт, что останутся и они. Интересно, их, девушек, так учат смотреть специально? У Сунь Аня, например, никогда не получалось выглядеть угрожающе, сколько бы они ни старался, и именно по этой причине с клиентами всегда ругался Чжоу Хань.
Сам Сунь Ань умел только мирить и договариваться, впрочем, судя по Ван Сун, тут даже этот талант не поможет.
– Я не злюсь, – в итоге говорит Ван Сун. – В этом нет смысла.
– Нет? Почему?
– Потому что это бесполезно. Ты когда-нибудь злился на котят?
– Нет?
– Вот именно, ты такой же бесполезный и глупый, а котята хотя бы милые, – объясняет Ван Сун логическую цепочку до конца. Ну, ни убавить ни прибавить, честно говоря, что тут еще скажешь-то?
Сунь Ань садится рядом и прикрывает глаза. Голова по-прежнему кружится, но не так сильно, как раньше. Наверное, он просто привык – как минимум, к езде на поезде, потому что к отсутствию в жизни Чжоу Ханя, конечно, привыкнуть невозможно. Это как фантомная боль – когда отрубают руку, а тебе кажется, что она по-прежнему на месте. Конечно, Сунь Аню руки никто не отрубал, но он говорил с участниками революций в Париже, по работе и просто из интереса – те рассказывали так много, что хватит на целую стопку кровавых метафор. Не таких поэтичных, как у Ван Сун, но и он не девочка.
Сунь Ань любил Китай. И выслушивал ворчание Чжоу Ханя о том, что это – чужое название, так говорить неправильно. Но разве это было важно? Да, сами они никогда не называли свою страну так, но французы называли, мягко, напевно, такие мелодии обычно звучат в песнях перед тем, как взвиться тревожно оборванной струной. Он любил его широкие улицы, дома с загнутыми крышами – чтобы никакая нечисть не зашла, пусть это в итоге и не помогло, – песни, которые пела им одна из служанок. Могла бы петь мама, но та не пела никогда, только сурово отчитывала, впрочем, Сунь Аню все равно нравился звук ее голоса. Он потом долго привыкал к французскому – одно дела слушать господина Эра, другое – толпы людей, говоривших по-чужому.
В детстве Китай казался ему страной из сказки – с городами за кирпичной стеной, через которую может перелететь только дракон, большими домами с фонарями, качающимися на ветру. Или, может быть, в детстве ему так не казалось и эту страну из сказок он выдумал, когда приехал во Францию.
Та была совсем другой – шумной, болтливой, с узкими улицами и высокими домами, со множеством, великим множеством людей, среди которых Сунь Ань так боялся потеряться. Францию он тоже любил, хотя, наверное, другой любовью.
– Тебе там нравилось? – вдруг спрашивает Ван Сун.
– В Европе?
Та сухо кивает.
– Да, – признается Сунь Ань. – Там было хорошо. Правда хорошо.
– А где лучше?
Он не знает – и это пугает сильнее всего, он просто не может определиться.
– По-разному, – в итоге компромиссно отвечает он, и, вероятно, Ван Сун такой ответ не нравится.
– Значит, в Париже, – сурово хмыкает та.
– Я этого не говорил.
– Но и не отрицал.
Ну что за невозможная девушка!
Сунь Ань беспомощно пожимает плечами.
– Мне было там спокойно, – объясняет он.
– А сейчас?
Сейчас ему не спокойно нигде.
Все случилось в весенний день. Тогда они с Чжоу Ханем провели все утро, пугая рыб в материнском пруду, за что их, конечно, отругали. Сунь Ань слушал упреки, щурился от ласкового щекочущего солнышка и чувствовал, как ветер холодит мокрые руки.
– Мама просто боится, что мы скормим ее рыб Принцессе, – шепотом поделился потом Сунь Ань с Чжоу Ханем. Они сидели на лестнице и слушали, как служанка ищет эту самую Принцессу. Сунь Ань знал, что та сбежала еще утром через дырку в заборе, но говорить об этом пока не хотел – пусть поищут, если все будут заняты, значит, на обед их позовут попозже.
– Да? – удивился Чжоу Хань.
Сунь Ань авторитетно кивнул. Мама говорила ему, что он уже взрослый и должен перестать проказничать, но разве он мог? Сейчас была весна, солнце сверкало и каталось по крышам, ветер гонял листочки по дорожкам у дома, громче обычного шуршал гравий, и было так хорошо-хорошо, что это счастье хотелось показать всем – хотелось бегать, кричать и творить разные глупости, лишь бы искорки внутри не гасли.
В тот же вечер мама позвала его к себе.
Она сидела в кресле – худая, серьезная, с волосами, стянутыми в тугую прическу множеством сверкающих заколок. Она сидела так прямо, что бусины в них даже не колыхались.
– Сунь Ань, мне нужно кое-что тебе сказать. – От начала Сунь Ань поежился. Когда мама не обращалась к нему по имени, потому что не любила упоминать фамилию отца, как ему объяснил господин Эр, и все это значило только одно – его ждет еще одна выволочка. – Нет, – вдруг передумала она. – Сначала спросить.
– Да?
– Ты бы хотел жить в другом месте?
Сунь Ань нахмурился. Он представил разные места: конечно, императорский дворец. Какой мальчик не мечтал и не представлял себя генералом, пришедшим на поклон своей правительнице? Или принцем, желающим придумать самые лучшие реформы? Потом он подумал про горы – он видел их однажды, когда они с семьей путешествовали – точнее, отец ездил по делам, а в их городе тогда было неспокойно, поэтому пришлось взять с собой жену и сына. Может быть, сейчас снова будет неспокойно и им снова стоит уехать в горы? Или просто в другой дом – красивый, как из сказки, и большой, чтобы Чжоу Хань мог жить с ними.
– Где? – спросил в итоге он.
– Я первая спросила, – на лице его мамы появилась такая чужая, непривычная улыбка.
– Хотел, наверное, – решил Сунь Ань.
– А если без меня?
Сунь Ань закусил губу, этот вопрос был сложнее и серьезнее.
– С Чжоу Ханем? – осторожно уточнил он, и мама задумалась.
– Можно и с ним. Я поговорю с госпожой Чжоу И.
– Если с ним, то хорошо, – успокоился Сунь Ань.
– Вы так близки, – покачала головой мама. – Осторожнее, когда привязываешься к людям.
– Почему?
– Потому что не все из них будут рядом вечно.
Тогда Сунь Ань не понимал, в чем дело. Как это – не вечно? Они же почти как братья, да еще и живут рядом – как это может случиться, что они будут жить отдельно?
Когда он рассказал об этом Чжоу Ханю, тот удивился.
– Ты думаешь, нам потом придется попрощаться друг с другом?
Они лежали на траве за домом – трава была жухлая и мокрая, неприятно холодила спину, но было в этом и что-то хорошее. Что-то такое легкое в ощущении высокого неба над головой и доверия, что было между ними…
– Так сказала мама.
– Может быть, она так считает, потому что женщина?
– Надо спросить у Ван Сун, – согласился Сунь Ань. – Хотя она говорила, что девочки не расстаются никогда, мол, это мужчины… предают? А женщины никогда.
– А моя мама говорит, что другим женщинам нельзя доверять, – заметил Чжоу Хань. – Что она так потеряла мою сестричку.
– Потеряла, потому что она ушла? – удивился Сунь Ань.
– Нет, кажется, это произошло из-за второй папиной жены, – Чжоу Хань задумался. – Нет, наверное, что-то тут не так. Они же обе жены, зачем же им обижать друг друга?




