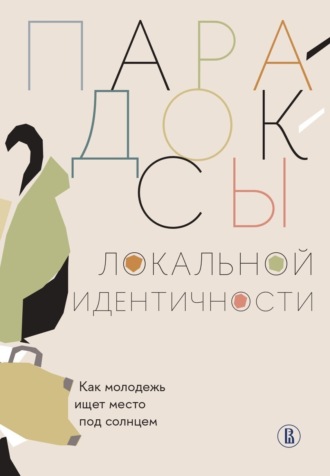
Полная версия
Парадоксы локальной идентичности: как молодежь ищет место под солнцем

Парадоксы локальной идентичности. Как молодежь ищет место под солнцем
© Авторы, 2025
Благодарности
Залог любого успешного проекта, тем более исследовательского, – это интересная идея, профессионализм и энтузиазм команды, неравнодушие людей, способствующих реализации задуманного, и удача. Нашему исследованию, которое проводилось сотрудниками Института прикладных политических исследований (ИППИ) и студентами НИУ ВШЭ в течение 2022 года в ходе студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», повезло, как нам кажется, и с идеей, и, что самое главное, с людьми.
Идея Юлии Беловой провести запланированные экспедиции по методу «длинного стола» и обратиться за помощью в этом к Илье Штейнбергу вылилась в подготовку методологии исследования на специализированных социологических курсах «Школа-студия полевого исследователя-качественника», проведенных в Институте социологии РАН (Москва) весной 2022 года. Спасибо огромное руководителю школы Илье Ефимовичу Штейнбергу за готовность поделиться опытом и знаниями со всей нашей исследовательской командой.
Благодарим Юлию Белову, которая не только курировала ход всего исследования, отвечала за разработку инструментария и консультировала коллег по проведению интервью, но и вложила много сил в подготовку нашей монографии. Юлия также была руководителем первой экспедиции в Псковскую область. Только тот, кто хоть раз затевал подобные мероприятия, может оценить всю нагрузку, которая ложится на плечи руководителя. Спасибо соруководителю экспедиции Василю Сакаеву, который помог в проведении исследования и поддерживал Юлию. Участники псковской экспедиции стали первопроходцами этого исследования. Именно на Псковской земле отрабатывался и корректировался инструментарий, а студенты старших курсов погружали в полевую работу политологов-первокурсников. Экспедиции в остальные регионы в результате сравнивали именно с псковской. Не можем не поблагодарить Анастасию Фандуберину (образовательная программа «Социология»), Дарью Чебанову, Анастасию Шинакову, Артема Гозбенко, Владимира Маркова, Савелия Клышко, Арсения Кузнецова, Глеба Смородина, Глеба Зинцова, Феофанию Ладыгину, Полину Березняковскую, Глеба Токаря, студентов образовательной программы «Политология» факультета социальных наук НИУ ВШЭ за любовь к исследованиям и Псковской области. Отдельная благодарность Анне Шигиной за любовь к Серёдке и организацию фестиваля в этом удивительном месте. И ничего бы у нас не получилось, если бы не Наталья Германовна Плявинская, которая, будучи генеральным директором Фонда инвестиционного развития Псковской области, сделала всю команду болельщиками своего любимого региона и познакомила с замечательными псковичами.
В Челябинскую область отправилась команда под руководством Катрин Насоновой (Арно) и Анны Шилиной (соруководитель), которым мы благодарны за четкость и ответственность, стойкость и смелость. Спасибо Даниилу Дорфману, студенту и другу, который уже имел опыт полевых исследований и профессионально очень окреп именно в ходе челябинской экспедиции. Спасибо Маргарите Муравицкой, Анне Беляковой, Анне Валиулиной, Екатерине Заваде, Артему Зельдичу, Юлии Конновой, Яне Лысюк, Владиславу Панину, Даниилу Смирнову, участникам экспедиции, которые открыли для себя, что Челябинская область – это не только центр черной металлургии, но и край озер и прекрасной природы. И отдельная благодарность Лие Семилетовой за любовь к Трехгорному и участие в мероприятиях города, а также за желание оставить там частичку своей души. Если бы не Светлана Гаязовна Калимуллина, начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области (в настоящее время – заместитель министра образования и науки Челябинской области), то многое точно пошло бы не по плану, поэтому спасибо Вам огромное, без Вашей энергии и задора все было бы тусклым.
Экспедиция в Карачаево-Черкесскую Республику прошла под руководством Дмитрия Сорокина и соруководством Василя Сакаева, которым мы благодарны за глубокое погружение в специфику региона и выполнение всех намеченных планов, несмотря на лето и пьянящую красоту региона. Спасибо Валерии Барахвостовой, Екатерине Гук, Стефании Иветич, Элине Керимовой, Савелию Клышко, Александру Коковихину, Арсению Кузнецову, Сухайлу Ниязову, Григорию Сметкину, Дарье Чебановой, Анастасии Шинаковой за слаженную работу и умение решать любые задачи в самых разных условиях. Отдельные слова благодарности выражаем Николаю Бережному, чья камера и творческий взгляд на мир запечатлели красоты республики. За гостеприимство и всестороннюю помощь глубокая благодарность Ибрагиму Ильясовичу Тоторкулову, министру по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики, без которого регион никогда бы не заиграл теми красками, которые увидели участники экспедиции.
Экспедиция в Камчатский край – самая далекая и самая долгожданная – прошла под руководством Катрин Насоновой (Арно) и при участии уже опытных студентов-исследователей: Лии Семилетовой, Полины Березняковской, Артема Зельдича, Владимира Маркова, Глеба Смородина, Глеба Токаря, Глеба Зинцова, Стефании Иветич, Феофании Ладыгиной, Алексея Ентаева. Без вашей самоотдачи, исследовательского любопытства и профессионализма исследование вряд ли состоялось бы. Отдельно благодарим Дарью Чебанову, которая написала дипломную работу про транспонирование региональной идентичности молодежи при переезде в мегаполис, взяв в качестве кейса Камчатку. Спасибо Александре Сергеевне Лебедевой, заместителю Председателя Правительства Камчатского края, чье неравнодушие, включенность в работу экспедиции и участие в организации исследования помогли не только реализовать все поставленные задачи, но и всей душой полюбить этот край. И отдельные слова признательности передаем нашим собеседникам, благодаря которым мы погрузились в тему локальной и региональной идентичности граждан нашей огромной и такой многогранной страны.
Особые слова благодарности выражаем нашим рецензентам, опытным и авторитетным исследователям молодежи – доктору социологических наук, директору Центра молодежных исследований, профессору департамента социологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Е. Л. Омельченко и доктору политических наук, доценту кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова А. В. Селезневой.
Введение (В. А. Касамара)
О введении к этой книге я думала по дороге из Китая. На мониторах в салоне самолета показывали наш маршрут, на котором появлялись разные населенные пункты. И вдруг я поймала себя на мысли, что Кунгур и Лысьва остались бы для меня ничего не значащими названиями, если бы мы в рамках проекта Высшей школы экономики не проводили там экспедиции «Открываем Россию заново». В 2017 году, во время наших первых экспедиций, сотрудники Института прикладных политических исследований со студентами Высшей школы экономики отрабатывали на практике полученные знания, навыки, методы, получали опыт полевых исследований, но главной целью было почувствовать специфику своей будущей профессии и погрузиться в жизнь самых разных регионов нашей страны.
Проблемы оттока молодежи из родных сел и городов, карьерные перспективы молодых специалистов и проблемы трудоустройства, привлекательность региона для жизни, ожидания и ценностные ориентации молодежи стали ключевыми темами экспедиций ИППИ доковидного периода в Магаданскую и Калининградскую области, в республики Саха (Якутия), Бурятия и Удмуртия, в город Севастополь и др. Результаты всех экспедиций носили прикладной характер, поскольку исследования были направлены на поиск путей решения вопросов, волнующих как молодежь регионов, так и органы исполнительной власти; но тогда нам еще не хватало опыта и смелости, чтобы сразу выходить на потенциальных заказчиков и совместно обсуждать цель и задачи экспедиции, которые были бы выгодны всем заинтересованным игрокам: вузу, студентам, органам законодательной и исполнительной власти, региональной молодежи. Продолжительность всего цикла занимала примерно два месяца: кабинетное исследование (14–28 дней), исследовательская экспедиция (10–14 дней), обработка данных и получение результатов (30 дней).
К 2020/2021 учебному году мы дозрели до ключевого изменения в проведении экспедиций – появления заказчика, заинтересованного в решении конкретных задач, имеющих практическую ценность для региона / муниципалитета / местного сообщества / некоммерческих организаций (НКО), и нацеленного на долгосрочное сотрудничество. Экспедиция становилась частью долгосрочного прикладного проекта по решению региональных проблем. Первым шагом были поиск регионального заказчика и совместное определение задач, требующих решения силами студенческих команд под руководством сотрудников ИППИ – выработки конкретных мер по повышению качества проводимых регионом политик в различных сферах (молодежной, социальной, культурной, коммуникационной и проч.). Так, шаг за шагом, мы нащупали взаимовыгодный и общественно полезный подход – обучение служением, когда заказчик получает варианты решения волнующей его проблемы, а студенты тренируются применять свои знания на практике.
В результате цикл экспедиционного проекта увеличился с двух месяцев минимум до года. Кабинетное исследование (проведение онлайн-интервью со студентами вузов и ссузов региона, анализ СМИ и социальных медиа, анализ статистических данных и программ регионального развития и проч.), длившееся примерно полгода, проходило сначала в рамках образовательного процесса в ходе преподавания одного из обязательных курсов (у политологов это был профориентационный семинар) и после его завершения продолжалось во внеучебное время. Исследовательская экспедиция, в ходе которой использовался метод включенного наблюдения, проводились интервью и фокус-группы, по-прежнему занимала около двух недель, но после полугодовой подготовки студенты чувствовали себя в поле намного увереннее. Обработка данных длилась от одного до трех месяцев. И важным этапом становилось представление результатов исследования с конкретными предложениями либо на региональной молодежной площадке (форумы, фестивали и проч.), либо на встречах с руководством региона. Проделанная работа выливалась в долгосрочное сотрудничество студентов с регионом: участие в реализации городских/муниципальных проектов, осуществление собственных инициатив. По такому сценарию прошли экспедиции в Тамбовскую и Липецкую области, а также в Пермский край, где заказчиками исследования выступали органы власти, отвечающие за реализацию молодежной политики, и главы регионов.
Переход от прикладного к научно-исследовательскому формату – следующий этап в подходе к экспедициям. Предметом нашего исследования стали сосуществование, пересечение и вступление в противоречие идентичности и миграционных установок молодежи. Для экспедиций мы выбрали четыре региона, объединенных проблемой оттока молодежи. С апреля по сентябрь 2022 года мы провели в них экспедиции – и открыли для себя различные населенные пункты Псковской и Челябинской областей, Карачаево-Черкесской Республики и Камчатского края.
Книга, которую вы держите в руках, была задумана в начале обсуждений предстоящих экспедиций и стала вызовом для всей исследовательской команды, которая в таком составе работала впервые. Отрефлексировать и осмыслить результаты интервью, впечатления от новых мест, притереться к соавторам, успеть устать от наработанного материала и многократно возвращаться к тексту для доработки и шлифовки – все это делает нашу монографию, как и все подобные работы, уникальным исследовательским продуктом, который можно использовать для дальнейшего изучения темы локальной идентичности, для погружения в специфику российских регионов, для осмысления миграционных настроений и чувств к малой родине.
Глава 1. Идентичность в социальных науках. Появление концепта и его эволюция (Д. С. Чебанова, М. А. Еременко, Д. А. Сорокин)
В современности концепт идентичности приобретает все большее значение в силу осмысления важности его роли в процессе формирования социальной структуры общества. Особенно важным этот аспект оказывается в моменты социальной турбулентности, так как позволяет стабилизировать и дополнять установки, пострадавшие из-за быстроизменяющегося социального контекста [Гельман, 2002, с. 42]. Кроме того, концепт идентичности является в определенном смысле связующим звеном между индивидом и сообществом, социальной группой, в которую он включен и частью которой сам себя ощущает.
Полидисциплинарность исследований и широта подходов к изучению идентичности обусловливают наличие в академической литературе большого количества разных дефиниций социальной идентичности, которые не позволяют говорить о консенсусе по поводу определения концептуального поля вокруг этого понятия, а также о четком обозначении его границ [Brewer, 2001], что приводит во многом к хаотичному и бессистемному использованию понятия идентичности в разных академических работах.
Концепт идентичности изначально формировался в философской среде, где с точки зрения политической мысли в контекст политической науки его вводили уже Джон Локк (в сочинении «Опыт о человеческом разумении») [Локк, 2022] и Дэвид Юм (в «Трактате о человеческой природе») [Юм, 2022], рассматривая понятие «идентичность» в качестве синонима «тождественности». Значимым вкладом Д. Юма стало представление о том, что идентичность практически не имеет возможности для самоконструирования и развития изнутри. То есть еще в философской парадигме рождается понимание того, что любая коллективная идентичность конструируется извне и так или иначе зависит от того сообщества, к которому относится и в рамках которого развивается. В дальнейшем понятие идентичности получило свое развитие в работах Иммануила Канта, который рассматривал ее как акт, являющийся результатом синтеза усилий восприятий, чувственности, рационального и интеллектуального компонентов. При этом он всецело подчеркивал, что для понимания идентичности важно учитывать, что она является продуктом совместного бытия с другими и не может рассматриваться в вакууме или в приложении к какому-либо отдельному человеку [Eisenstadt, Giesen, 1995, p. 77]. Важно понимать, что еще до применения этого понятия в социальных науках и фокусированного переноса идентичности на некоторую социальную группу взаимосвязь индивида с сообществом осмысливалась философами как раз через концепт идентичности. В их понимании этот термин носит релятивистский характер и во многом опирается на субъективное восприятие его индивидом или группой. Завершает философскую (в классическом понимании) традицию мышления идентичности Георг Гегель [Гегель, 1992], который рассматривает данный концепт в качестве многоаспектного процесса, таким образом позволяя распространять мышление об идентичности на более крупные общности и структуры – нации, государства, институты и т. д.
Непосредственно в социальных науках концепт коллективной идентичности начинает оформляться ближе к середине XX века. Традиционно формирование первичного понятийного аппарата вокруг концепта идентичности связывают с именем Эрика Эриксона [Эриксон, 1996], который агрегировал большинство подходов к описанию идентичности (философский, психологический, зарождающийся социальный), тем самым придав этому концепту междисциплинарный характер, вследствие чего он занял одно из центральных мест в академической мысли Запада.
В социальных науках идентичность изначально рассматривалась в рамках двух основных широких подходов. Прежде всего это макросоциологический подход, который подразумевает рассмотрение идентичности со структурной точки зрения, то есть через большие системы, частью (или связующим элементом) которых она является. Сторонниками данного подхода являются, например, Эмиль Дюркгейм, Толкотт Парсонс, Роберт Кинг Мертон. Микросоциологический подход [Гофман, 2000, с. 21–25] рассматривает проблему идентичности и ее концептуальные рамки с иного ракурса, опираясь в первую очередь на основания феноменологического подхода, символического интеракционизма и, позднее, социального конструктивизма, который в итоге позволяет идентичности обрести черты, характерные для современного понимания заданного концепта. Два указанных подхода значительно различаются как в трактовке самой идентичности, так и в исследовательской оптике и инструментарии, применяемых при изучении понятия.
Макросоциологический подход опирается на заложенные Дюркгеймом [Дюркгейм, 1996, с. 10] идеи, в том числе о том, что человек представляет собой определенную двойственную структуру, включающую индивидуальный и общественный элементы. В дальнейшем это позволило Дюркгейму и его последователям обращаться к «социальной сущности», послужившей в определенной степени прообразом социальной идентичности. С системой ролей и статусов в социуме работал и Парсонс [Парсонс, 1998, с. 15–23]. Он обезличивал человека, а процесс построения «социальной сущности» обращал в безальтернативный, вынужденный, ориентируясь при этом на представление об объективности социокультурной среды, в которую погружен индивид.
С постулатом объективности и системности боролись сторонники микросоциологического подхода, обращаясь к сообществу как к живой, изменчивой системе со своими нормами, установками, ценностями, которые в процессе длительного взаимодействия с индивидом формируют социальную идентичность и чувство самоотождествления с группой. Несмотря на то что некоторые сторонники данного подхода, например Ирвинг Гофман [Гофман, 2000, с. 21–25], ориентировались также на концептуальный аппарат, используемый приверженцами макросоциологического подхода, говоря, что идентичность индивида – это набор «масок» и социальных ролей, можно заметить значительное различие подходов в том, что сам индивид в рассматриваемой парадигме не находится в рамках объективной действительности и постоянно достраивает свою идентичность в процессе взаимодействия, социальных интеракций, принятия или непринятия норм и т. д.
Важным в рамках микросоциологического подхода представляется рассмотрение социального конструкционизма – парадигмы, которая позволяет не только раскрыть сущность социальной идентичности в современных условиях, но также рассмотреть контекст, в который изучаемый концепт погружен. Основные теоретики социального конструкционизма – Питер Людвиг Бергер и Томас Лукман [Berger, Luckmann, 1966]. «Социальное конструирование реальности» является релевантным для рассмотрения идентичности по ряду причин. Прежде всего, данный подход позволяет рассматривать социально воспроизводимые феномены не в застывшем состоянии, а в динамике, постоянном развитии, изменении, преобразовании, в том числе с точки зрения смысловой нагрузки, которая вкладывается в этот социальный феномен участниками его конструирования – людьми. Важно понимать, что идентичность в социальных науках является гибким феноменом, который позволяет людям достаточно эффективно адаптироваться к изменяющимся контекстуальным условиям, избегая ситуаций внутреннего (в том числе психологического) дискомфорта. Эту же черту коллективной идентичности замечает Стюарт Холл [Холл, 2010], обозначая ее термином «динамичность».
Конструкционизм применим для анализа социальной идентичности еще и потому, что смещает акцент внимания на интеракции и, следовательно, позволяет проследить эволюцию интересующего нас явления. Таким образом, можно говорить о том, каким изменениям была подвергнута идентичность и по каким причинам это происходило, и о том, как подобных изменений можно было бы избежать в будущем, поскольку индивид является достаточно избирательным по отношению к тем нормам и ценностям, которые он интернализует. Так, мы всегда можем говорить о наличии определенного общественного консенсуса относительно закрепившихся социальных феноменов. В привязке к идентичности это означает прежде всего, что она является не чем-то априорно существующим, но всегда приобретенным. В таком случае процесс формирования идентичности становится самоценным.
Иным важным допущением социального конструкционизма является предположение о том, что люди сами выступают как конструкторы окружающей их социальной действительности, а также создатели смыслов, которыми в дальнейшем наделяются феномены. Следовательно, любой ценностный/культурный кризис, ощутимый на уровне группы, так или иначе приводит к дестабилизации оснований, на которых строится коллективная идентичность, при этом изменяя социальную реальность, переосмысляя, переформулируя ее. Именно поэтому рассмотрение коллективной идентичности в моменты социальной турбулентности оказывается особенно актуальным и показательным.
Таким образом, ориентирование на микросоциологический подход к рассмотрению коллективной идентичности представляется нам в рамках данной работы более уместным, так как он позволяет работать в том числе и на индивидуальном уровне, на частных примерах, рассматривая общие тенденции и сам процесс формирования идентичности группы.
Идентичность в политологии
«Идентичность» как термин и концепт для изучения занимает особое место в академической политологической дискуссии с середины XX века – периода бихевиоральной и лингвистической революций. Смена акцента анализа с политических институтов на поведение связанных с ними акторов потребовала от исследователей обратить внимание как на индивидуальные предпочтения и ценности, так и на механизмы, связанные с коллективными образами. Идеи, разработанные на пересечении лингвистики, когнитивистики и социологии, проблематизировали необходимость изучения концепта идентичности и в области политической науки.
Политика идентичности (identity politics) как предметная область политологии получила широкое распространение в 1980-е годы [Мчедлова, Казаринова, 2020]. Тем не менее даже современное состояние предмета не позволяет предложить конвенциональное определение идентичности: по мнению О. Ю. Малиновой, это связано с высокой интенсивностью изменения окружающего мира, в результате чего «понятия перетекают из быстро меняющегося политического дискурса в теоретический и обратно, не успевая обрести устоявшийся смысл» [Малинова, 2005, с. 9].
Вместе с тем эволюция границ «идентичности» предлагает важный взгляд на особенности текущего понимания этого термина. Первые попытки провести концептуализацию предпринимают С. Холл и его коллеги в работе «Культурная идентичность и диаспора» [Hall, Du Gay, 1996], где на основании анализа африканских диаспор предлагают рассматривать феномен на двух уровнях: как «коллективное Я», которое разделяется обществом с общей историей и родословной; второе определение затрагивает результат взаимодействия подобного «коллективного Я» с окружающей средой, то есть фиксируется на его изменении, существовании в контексте.
В современной дискуссии компромиссное определение было предложено И. С. Семененко, обозначившей политическую идентичность как «комплекс идейно-политических ориентаций и предпочтений, которыми субъекты политического процесса наделяют себя и друг друга в процессе коммуникации, который предполагает отождествление носителя политической идентичности с тем или иным политическим сообществом» [Семененко, 2012, с. 71]. При этом важным в определении становится механизм формирования подобных ориентаций.
Отношение к идентичности как к совокупности ценностей легло в основу «цивилизационной» теории в сфере международных отношений: например, Сэмюэл Филлипс Хантингтон [Хантингтон, 2003] в работе «Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка» в качестве теоретического допущения обозначил ценностные группы как детерминанты для сотрудничества и конфликтов между странами. В современной политической науке ценности, составляющие в совокупности культурную идентичность, лежат в основе исследования World Values Survey под началом Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля [Инглхарт, Вельцель, 2011]. Исследователи показали важную связь между ценностной системой общества и особенностями работы политической системы в нем.
Подобное отношение предопределило попытки ученых объяснить природу и сущность формирования политических институтов. Чарльз Тилли [Тилли, 2009; 2019] стремится обозначить понимание коллективного насилия в контексте европейской идентичности в ретроспективе, Альберто Мелуччи [Кирсанова, 2020] обращает внимание на формирование идентичности в условиях новых социальных движений (new social movements). Идентичность изучается в тесной связи с функционированием государства: примечательны исследования Ч. Тилли о роли идентичности в формировании национального государства; Питера Хэма [Ham, 2001, p. 2–6] о формировании идентичности как международного бренда государства. На перипетии проблемных вопросов возникает спор об основаниях принадлежности к государственной нации [Перегудов, 2011]. В этой дискуссии получает развитие концепт «гражданской идентичности» Дэниэла Харта, Кэмерона Ричардсона и Бритта Вилькенфельда как основание независимого от государства гражданского общества [Hart, Richardson, Wilkenfeld, 2011].

