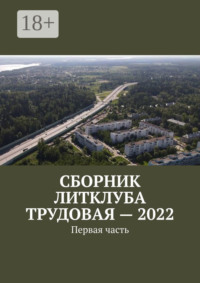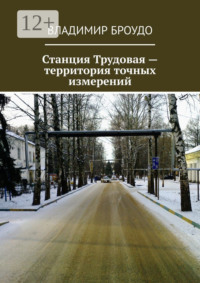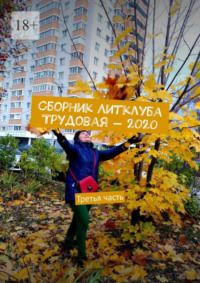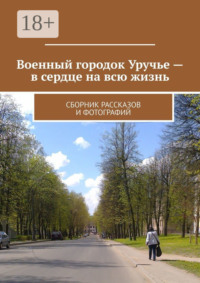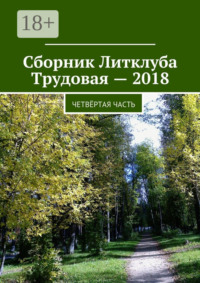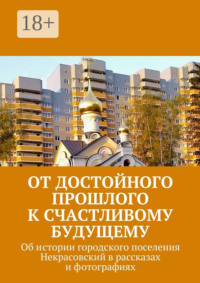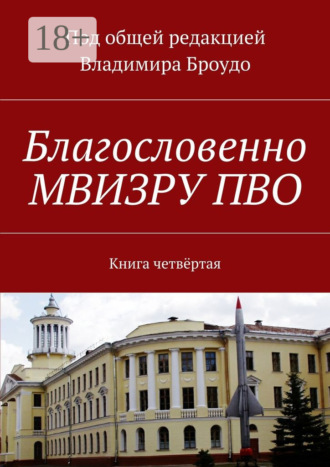
Полная версия
Благословенно МВИЗРУ ПВО. Книга четвёртая
Часто приезжали в Городище вместе с папой и мамой. Они и мы не только посещали сына и внука, но отдыхали сами. Для поездки использовался папин «Запорожец».
Сегодня (2015 год) удивляешься, что для простых трудящихся такие льготы были повседневны и доступны.
Был 3-ий год моего обучения. После истории КПСС и философии, мы стали изучать политэкономию. На одном из семинаров мы с укоризной высказали преподавателю недоумение о наших нищенских заработных платах. Он нас начал переубеждать, что мы не правы, потому-что не учитываем общественные фонды потребления (ОФП). Мы действительно не учитывали их также, как не учитываем воздух, которым дышим. Только сегодня, когда заработную плату оставили прежней, а за ОФП стали платить нищенскую компенсацию в 500 рублей (менее 10—15$), мы почувствовали положительные стороны социалистического общества.
(Общественные фонды потребления – часть фонда потребления национального дохода, идущая на удовлетворение потребностей членов социалистического общества сверх фонда оплаты по труду. ОФП призваны обеспечить планомерное воздействие государства на формирование структуры расходов и потребления населения в интересах постепенного, по возможности более быстрого сближения и выравнивания социально-экономического положения членов общества, социальных групп, слоев и классов. Выплаты и льготы из ОФП являются одной из основных форм социалистического распределения наряду с заработной платой, премией, доходами от личного подсобного хозяйства.
За счёт ОФП обеспечивается бесплатное образование, включая высшее, выплачиваются стипендии студентам, оказываются бесплатная медицинская помощь и льготное санаторно-курортное обслуживание, выплачиваются государственные пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, организуется отдых рабочих, служащих и колхозников, обеспечивается массовость физической культуры и спорта, оплачиваются ежегодные отпуска, удерживается на низком уровне квартирная плата, проезд в общественном транспорте, содержатся детские дошкольные учреждения и т.п.)
Однажды Ларисину фабрику я использовал в личных, корыстных целях. На занятиях по политэкономии мы проходили тему «хозяйственный расчёт». Он, вводимый Косыгиным, был мне не очень понятен. Я начал консультироваться у своего домашнего бухгалтера, как у них на фабрике реализуется это новшество. На моё удивление жена исчерпывающе дала вразумительные, приземлённые ответы на все мои вопросы.
Я их тщательно сформулировал, записал и затем успешно выступил с рефератом на очередном семинаре. Вот, что говорят в Интернете о хозрасчёте.
(Хозрасчёт или хозяйственный расчёт – термин, широко использовавшийся в условиях социалистической экономики, предполагавший такое ведение хозяйственной деятельности на социалистическом предприятии, когда окупаются все затраты на производство продукции, у предприятия и его работников появляются экономические стимулы, что приводит к увеличению объема производства, улучшению качества продукции и увеличению заработной платы.
Хозрасчёт осуществляется в интересах всего общества, повышения благосостояния трудящихся, Он позволяет сочетать интересы общества с интересами отдельных коллективов предприятий и каждого трудящегося.
Хозрасчёт лежал в основе экономической реформы, осуществлённой в 1965—1970 годах. Он связывается с именем председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина.
Основные мероприятия реформы были введены в действие на протяжении 8-й пятилетки 1965—1970 гг. К осени 1967 г. по новой системе работали 5,5 тыс. предприятий (1/3 промышленной продукции, 45% прибыли), к апрелю 1969 г. 32 тыс. предприятий (77% продукции).
На протяжении пятилетки фиксировались рекордные темпы экономического роста. Высокими были темпы роста жилищного строительства, развития социальной сферы, финансировавшихся за счёт средств предприятий.
Восьмая пятилетка получила образное название «золотой».
Среди причин «захлёбывания» реформы обычно приводятся сопротивление консервативной части Политбюро ЦК, а также ужесточение внутриполитического курса под влиянием Пражской весны 1968 г.
А. Н. Косыгину приписываются слова, сказанные в 1971 г.: «Ничего не осталось. Всё рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду»).
С годами, уже после нашего отъезда, фабрика стала хиреть. Возможно, из-за отказа от Косыгинской реформы. В девяностые годы, когда все прилавки завалили дешёвым импортом, а социалистические соревнования со знамёнами исчезли как дурной сон, фабрика прекратила своё существование. Осталось от неё только чудесное здание, расположенное в центре города. В него вселились новые хозяева.
У нас же с Ларисой остались светлые воспоминания о фабрике о добрых Ларисиных подругах, о том хорошем, что она нам дала.
Серёжина школа
Время шло, наш сын подрастал. В 1969 году ему стукнуло 7 лет. Пора идти в школу. Естественно, сына к школе мы готовили, постоянно с ним занимались. Шёл он в школу, умея читать, считать и писать.
Определили Серёжу в школу №16, находившуюся в нашем дворе. В первой части Воспоминаний я писал, что директором школы был Яков Исаакович Якубовский, который в 1955—1957 годах преподавал нам с Ларисой военное дело.
Школа была образцовой, с различными дополнительными, непривычными для нас, факультативами, дисциплина – железной. Якова Исааковича боялись, как ученики, так и учителя. Маленький Серёжа говорил, что когда директор появлялся в школе, то его громкий, командирский голос был слышен на всех четырёх этажах. Все показатели в школе были отличными. Родители, в том числе и мы, были спокойны за своих детей.
Несмотря на свою занятость, я был избран в родительский комитет класса. Мы с Ларисой постоянно следили за успеваемостью сына, контролировали приготовление им уроков. Вспоминал, как мои родители не контролировали меня, как я порой ленился, шёл в школу с неподготовленными уроками. Позже, упущенное в школе, пришлось самостоятельно восстанавливать. Проучится Серёжа в 16-й школе до 3-го класса. В декабре 1971 года он переедет в г. Калинин, к месту службы своего отца. Радостным открытием будет для него то, что не нужно будет изучать белорусский язык.
Родственники
В Минске, наконец, у нас с Ларисой были собственная квартира и устроенная семья. Кроме этого, в родном для нас городе, находилось большое количество родственников. Это мои и Ларисины родители, родные, двоюродные и троюродные тётки и дядьки, сёстры и братья, их жены, мужья и, в свою очередь, их родственники. Несмотря на мою большую занятость, мы успевали уделять внимание, время и им.
Центром притяжения нашей Власовской семьи были мои родители. Отец и мама к 1966 году были полноправными пенсионерами, жили в благоустроенной, однокомнатной квартире на улице Волоха. Мы с Ларисой постоянно бывали у них на семейных праздниках. Так же было принято, что родители, соскучившись по своим возрастным чадам, приходили к ним домой на посиделки. Мы так же посещали их по множеству причин. Часто мама с папой забирали к себе домой с ночёвкой своих, порой неугомонных, внуков: Риммину Олю и нашего Серёжу. Несмотря на то, что у них была разница в возрасте два года, они были на равных, тепло относились друг к другу. Находили для себя у дедушки с бабушкой интересные занятия и игры.
Часто бывали в гостях и у сестры Риммы. Благо, что жили в одном дворе, в 200-х метрах друг от друга. У Риммы познакомились с Лисовскими. Они жили на одной лестничной площадке с ней. Михаил Лисовский был талантливым художником. Ему прочили большое будущее. Помимо прочего он удачно рисовал шаржи, которые пользовались большим успехом и спросом. Его жена Грета преподавала в художественном училище. У них были три девочки: старшая Таня, чуть старше Оли, и двойняшки: Ира и Маша. В нашу бытность в Минске, в конце 1970 года, в семье Лисовских случилось горе. Внезапно заболел и в возрасте 39 лет скончался Михаил. Семье стало нелегко. Но мужественная Грета, с достоинством пронесла свой крест. Вырастила замечательных дочерей, дала им хорошее образование. На семье Лисовских остановился особо, так как с Гретой, этим замечательным, чутким, благородным человеком мы подружились и поддерживали тесную связь до конца её дней в 2014 году. Стала она для нас родным человеком, эталоном совести, чести и терпения.
Всей семьёй собирались у тёти Ии, папиной родной сестры. У них встречались с детства знакомой большой семьёй Шелегов, родственников дяди Коли, мужа тёти Ии. Это его сестра Ольга с мужем Григорием, младший брат Владимир с женой Галей и сыновьями Олегом и Игорем, младшая сестра Нина с мужем Иосифом и двумя сыновьями Николаем и Андреем.
Всегда эти встречи проходили весело, непринуждённо. Все мужики любили выпить, спеть залихватскую песню. Дядя Гриша, в семье его называли хохол, всегда заводил свою любимую песню «Распрягайте хлопцы кони, да лягайте почивать…».
Собирались и моей тёщи Степаниды Адамовны. К ней по этим случаям приходил с женой или один старший сводный брат Ларисы, Иван. Запомнилась поездка к тёте Паше, сестре Степаниды Адамовны, в Цнянку. По случаю троицы, на опушке леса, была собрана большая, весёлая компания.
Но самые интересные встречи были у тёти Веры, папиной двоюродной сестры, в Радошковичах. Здесь собирались не только Власовы и Шелеги. Часто в нашей компании были тётя Катя и дядя Петя Пузыревские. Пётр Пузыревский был троюродным братом тёти Веры по отцовской линии. Иногда здесь мы встречались с родным братом тёти Веры Андреем, приезжающим из Чехословакии и двоюродной её сестрой и папы тётей Лёлей (Еленой), приезжающей из Польши. Бывал в Радошковичах и дядя Андрей с женой Валей из Красноярска.
Когда собирались в Радошковичах, то часть минчан я вёз на «Запорожце». Остальные ехали электричкой до Вязынки (9км от Радошкович). Я ездил к ним навстречу и привозил к месту сбора.
Ездили в Радошковичи не только на встречи. Иногда, во время отпуска, я со своей семьёй отдыхал у тёти Веры. Кроме того, чтобы был повод ездить в Радошковичи, родители «арендовали» у тёти Веры грядку. На ней сажался щавель, который консервировался на зиму.
Не забывал я и маминых родственников. Регулярно бывал у маминой родной сестры Лиды. Встречались с тётей Ниной Бушило, с троюродной сестрой Юзей.
«Запорожец»
Большой отдушиной для деятельного и неугомонного отца были полученная им, инвалидом войны, машина «Запорожец» и гараж для неё. Гараж располагался рядом с домом. Когда сносили родительский дом и отцовский гараж, то отцу подобрали квартиру рядом с гаражным кооперативом. Отец ходил в него как на работу. В нём всегда находилась для него занятия. Здесь он конструировал незатейливую мебель, что-то паял из жести для себя или друзей по гаражу. До сих пор (2015 г.) наш дачный телевизор стоит на столике, сделанном им.
К Игорю Павловичу в гаражном кооперативе относились с большим уважением. Это распространялось и на меня, его сына. Хотя я имел водительские права, но опыта эксплуатации того же «Запорожца» у меня не было. Поддерживать нашу машину в постоянной готовности помогали папины друзья по гаражу. Они же, за копейки, обеспечивали отца левым бензином (1 рубль за 20-литровую канистру 72-го бензина. Тогда машины ездили на таком бензине. 76-й бензин только появлялся).
Не забывали отца приглашать в свои компании, выпить по случаю окончания рабочего дня положенные 100 грамм. Этим недовольна была мама. Сама не пьющая, она ревниво относилась к выпивкам отца и его походам в гараж.
«Запорожец» использовался в полную силу. Отец имел водительские права. Для их получения он был определён на специальные курсы в профилакторий. Но ездить самостоятельно отец боялся. Первое время машину водил только я. Сестра Римма, заметив такую несправедливость, мобилизовала мужа Николая пройти курс обучения и сдать на права.
Постоянно ездили с отцом на рыбалку, в Радошковичи, на дачу к Серёже, в пионерский лагерь к Ольге и даже на озеро Нарочь, расположенное в 160 км от Минска. За год наезжали более 10000 км.
На Нарочи каждое лето отдыхала сестра Римма с семьёй. У её предприятия связи на Нарочи был домик, с комнатами и небольшой отдельной кухней с газом и прочими бытовыми удобствами. Эти комнаты по очереди могли занимать семьи работников. Мы приезжали с отцом к Римме на пару дней. При этом отец спал в «Запорожце», а я с Серёжей более цивильно, на полу в комнате. Озеро красивое, вода чистая, но холодная. Купаться в нём не доставляло большого удовольствия, тем более, чтобы в него зайти и по-настоящему поплавать, нужно было преодолеть не менее 50—100 метров мелководья.
Приезжал на Нарочь с вяленым лещом или воблой. В те годы это был большой дефицит, доставаемый по большому блату. Этот блат у меня был в лице друга детства, торгового работника Гарика Шевелевича.
С лещом мы с Николаем шли в местный пивной бар. Так как вяленая рыба, запах от неё вызывали у окружающих косые взгляды и слюнки, то мы ею щедро делились. Пиво было тогда натуральное, пилось легко, с большим удовольствием. За вечер, за разговорами, выпивали с Николаем по 3—4 кружки.
…
В начале 60-х годов часто ездили с отцом на рыбалку на Заславское водохранилище, где немерено ловили ерша. В эти годы туда не ездили, не было уже соседа с лодкой, которую мы могли арендовать. Ездили на карьеры у Сёмкового Городка или на сажалку у Заславля. Так же рыбачили с отцом и в Радошковичах. Ловили исключительно карасей.
Отец ловил удочкой, а я, в основном, бучами. Но пока бучи стояли в воде, вовлекая приманкой в себя рыбу, я развлекался удочкой. Рыбак я, по сравнению с отцом, был неважный. Не было у меня чувства. Рыбу подсекал то рано, то слишком поздно.
В Сёмков Городок иногда приезжали рыбачить с ночёвкой. Помню, однажды, всю нашу рыбу, наловленную вечером, утащили лиса или деревенские собаки. Было очень обидно. Впредь были осмотрительными, не оставляли наловленную рыбу где попало.
Однажды возил на «Запорожце», приехавших из Польши тётю Лёлю (Елену Власову-Кунцевич) и дядю Адю (Андрея Снитко), приехавшего из Чехословакии. Дядя Адя попросил меня провести их из Минска в Радошковичи той дорогой, которой они шестьдесят лет тому назад ездили на лошади с отцом. Мы поехали. Дядя Адя вспоминал места, через которые они проезжали. Наконец, он попросил остановиться на бугорке, где они всегда останавливались с отцом для отдыха. Я на этом месте сделал памятный снимок.
По осени наш «Запорожец направлялся в лес за грибами. Всем руководил шурин, Николай Гирилович. Он вёз нас с отцом, к себе на родину, в Дальву, где провёл детство, где знал каждый кустик и грибные места.
Коля был настоящим грибником. Он видел не только те грибы, которые на полметра выступают над землёй, но, в первую очередь, те, которые своей шляпкой только приподнимают подстилку, желая выбраться наружу. При этом, по лесу он не ходил, а бегал, зная, где может быть грибница. Так он бегал от грибницы к грибнице и щёлкал молоденькие боровички. Я же ходил по лесу, собирая те же боровики или моховики, которые значительно вылезли наружу. За день Николай сшибал 200 и более боровичков. У нас с отцом в основном были моховики. Когда в конце «грибалки» мы все собирались, Николай удивлялся нашей с отцом нерасторопности и, из жалости, привозил нас к молоденькому сосняку, где сплошным ковром росли маслята. Я, практически по-пластунски, пробирался сквозь колючие ветки и за минуты набирал полные корзины маслят для себя и отца. Дома от молодой жены я получал за эти маслята выволочку. Естественно, у неё была определённая, человеческая зависть, что у Николая одни боровички, а у меня в основном сопливые маслята. Сегодня (2014 г.) об этих маслятах можно только мечтать, какие они сладенькие и вкусные.
В июне 1970 года папы не стало. Ушёл он из жизни в 62 года. С одной стороны, потерял здоровье на войне, перенеся три сложнейших операции. Во-вторых, вёл нездоровый образ жизни. Очень сильно курил. Причём, долгое время курил махорку, которую заворачивал в газетный листок. Получалась цигарка в палец толщиной. Затем курил не менее токсичные папиросы «Прибой». Сказались на его здоровье испарения от соляной кислоты и оловянно-свинцовой смеси, возникающие при пайке им жестяных изделий в 40—50-е годы. Заключительным аккордом стал ремонт в 1969 году квартиры. Отец покрыл пол польским, неприятно пахнущим лаком, и остался в этой вони ночевать. Вскоре началась у него онкология. Отец после этого потерял голос и прожил только год. А я осиротел. Не было мне уже с кем так интересно ездить на рыбалку и по грибы.
Заключительный аккорд в Радошковичах
Защита дипломов слушателями длится достаточно долгое время, не менее месяца. Те, кто его защитил, был свободен до момента распределения, вручения дипломов и получения очередного воинского звания.
Так получилось и у меня. Я имел более недели свободного времени. Папы уже не было, ездить на рыбалку не с кем. Решил эту неделю посвятить тёте Вере, сделать ремонт её квартиры в Радошковичах. Она ни разу не ремонтировалась на моей 30-летней памяти. Накануне, мастерица делала ремонт нашей квартиры. Я был у неё в подручных, всё смотрел, спрашивал и тщательно записывал. После этого мастер-класса стал самоуверенно считать себя мастером этого дела.
Предварительно договорившись с тётей Верой, я с дядей Колей, закупили все необходимые материалы, вооружились инструментом и на верном «Запорожце» направились в Радошковичи.
Нам была предоставлена полная свобода в действиях. Мы планировали покрасить потолок, стены и пол. Но прежде чем приступить к этой работе, мы заметили, что одна из потолочных балок опустилась. В результате стенная перегородка изогнулась в дугу. Причиной этому был огромный, кирпичный чердачный лежак трубы, навалившийся на балку. Мы с дядей Колей поставили мощные опоры, балка приподнялась, стена выровнялась.
Потолком стал заниматься дядя Коля. С него предварительно нужно было соскоблить вековую извёстку. Белили потолок по новой технологии, с помощью пылесоса. Я параллельно занялся шпаклевкой стен, подготовкой их к покраске. И здесь была применена новая технология. Покраска стен осуществлялась клеевой краской с помощью изготовленным мною меховым валиком. Заключительным аккордом была покраска полов с помощью того же валика.
Работали ударно, с раннего утра, до позднего вечера. Вкусно кормила нас тётя Вера. Жили мы дружно. Ремонт был сделан за минимальные сроки. Сравнивая предыдущее состояние квартиры с настоящим, можно было сказать, что всё было сделано превосходно и, главное, от души. После нашего ремонта квартира не ремонтировалась более 30 лет. Моё мастерство по ремонту квартир возросло. Его я использовал и совершенствовал в течение 30 последующих лет дома и на даче.
Мы с Ларисой во время моего месячного отпуска обычно выезжали отдыхать на Юг. В 1971 году решили отказаться от Юга. Лариса была в положении на 5-м месяце. Мы попросились у тёти Веры провести отпуск у неё.
Нужно, сказать, что в эти годы летнее время у тёти Веры было расписано наперёд. Ею отмечалось, кто и когда у неё отдыхает. Нашими конкурентами в Радошковичах были многие.
Во-первых, брат тёти Веры Андрей, приезжающий один или с друзьями из Чехословакии.
Во-вторых, её двоюродная сестра Елена Власова-Кунцевич, приезжающая из Польши.
В-третьих, её троюродный брат Пётр Пузыревский с женой Екатериной, приезжающие из Москвы.
В-четвёртых, её троюродная сестра Тамара Жиркевич из Москвы.
В-пятых, дети её троюродной сестры Екатерины Жиркевич, Галина и Людмила, из Ленинграда.
В-шестых, друзья детства тёти Веры, Литвиновы из Москвы.
Часто любили отдыхать у тёти Веры минчане, её двоюродная сестра тётя Ия с мужем, дядей Колей, двоюродная племянница, моя сестра Римма с мужем Николем и дочерью Ольгой.
Иногда приезжал из Красноярска двоюродный брат тёти Веры, Андрей Алексеевич Власов.
Так, что получить место в Радошковичах, в нужное для тебя время было не просто. В этот раз нам повезло, весь отпуск мы провели в Радошковичах. Бедным Пузыревским пришлось снять комнату у соседей. При этом отдыхали не только мы с Ларисой и Серёжей, но и примкнувшие к нам две мамы и племянница Ольга.
В чем заключался наш отдых в Радошковичах. Во-первых, полная свобода. Можно спать сколько угодно. Не нужно учиться, спешить в училище. Всё время в твоём распоряжении. Утром вставали поздно, не спеша готовили нехитрый завтрак. За стол садилось семь человек. Это я, Лариса, Серёжа, моя мама, Ларисина мама, племянница Ольга, наконец, хозяйка дома тётя Вера.
После завтрака ходили на луг, раскинувшийся возле небольшой речушки под романтическим названием Гуйка. Здесь мы загорали, окунались, ловили пескарей и уклейку, играли с Серёжей и Ольгой в футбол и волейбол. Иногда ходили в лес за ягодами и грибами. С помощью бучей я ловил в ближайших сажалках карасей.
Наши мамы оставались с тётей Верой дома, что-то делали по хозяйству, вели бесконечные разговоры. Главное, что жили все мы душа в душу. Степанида Адамовна не могла сидеть сложа руки. Порой она уединялась в огороде и с профессиональным пониманием боролась с сорняками. Тётя Вера была очень довольна проявлением этой инициативы. После обеда все немножко отдыхали. Вечерами, после чаепития, затевали какие-нибудь игры с участием взрослых и детей. Было непринуждённо и весело.
Раз в четыре дня приезжала, работающая в Минске Ирина, дочь тёти Веры. На выходные из Минска приезжали Римма с Николаем и тётя Ия с дядей Колей. Было ещё веселее. Как все мы устраивались на ночлег, уже и не помню.
В Радошковичах я буду ещё отдыхать с семьёй в том же составе в 1975 году. С годами будет уходить поколение наших родителей. Уйдёт из жизни и наш патриарх, тётя Вера. Все мы заимеем свои дачи. Наши Радошковичи осиротеют. Не будет в них больше таких весёлых, жизнерадостных компаний.
Да и вид самих Радошкович резко изменится. Надо же такому случиться, что через них пройдёт канал Вилейско-Минской водной системы. Он ополовинит и уничтожит всю прелесть, девственность нашего «поместья». Речке Вязынке, с чистейшей, питьевой водой, обрамлённой ивами, извилисто протекающей рядом с домом, отроют новое русло, похожее на сточную канаву.
Я буду ещё неоднократно приезжать в Радошковичи, чтобы проведать тётю Веру, сестру Ирину, посетить погосты моих предков. Именно здесь, в Радошковичах, похоронены мои прабабушка, Елена Адамовна Власова, двоюродная бабушка, Елизавета Никитична Власова-Снитко. В 1998 году здесь нашла вечный покой любимая тётя Вера.
На этой земле расположена Родина моих предков. Рядом с Радошковичами расположена деревня Миговка, в которой с конца 19 века находилась усадьба прадедушки Никиты Алексеевича Власова. Её пришлось покинуть и сгинуть в советском лагере, его сыну, моему двоюродному дедушке Александру Никитовичу Власову в 1939 году, после «освобождения» Западной Белоруссии.
Прощание с Белоруссией и Минском
Пятилетняя моя учёба окончилась. Отпуск подошёл к концу. Нужно было следовать к новому месту службы в Россию, в волжский город областного значения Калинин, бывшую и будущую Тверь. Снова, как в 1966 году, уезжая из Лабно в Минск, задумался, что меня и мою семью ожидает? Благосклонна ли будет к нам судьба?
Уезжал один. Лариса с Серёжей оставались в Минске. Ларисе нужно было доработать до декретного отпуска, затем уволится по случаю перевода мужа офицера к новому месту службы. В этом случае сохранялся непрерывный стаж её работы. Что будет учитываться при назначении пенсии. Я же должен был искать в Калинине подходящую жилплощадь.

Встречи с однокурсниками
По окончании МВИЗРУ разлетелись мы по необъятной нашей стране. Хочется вспомнить, где, кого и в какой обстановке встречал из нашего выпуска. Пойду по алфавитному списку курса, который у меня сохранился, как у редактора стенной газеты курса. Список использовал для того, чтобы в очередной стенной газете поздравить именинников с днём рождения.
Виктор Алешаев был медалистом.
Он из первой учебной группы. Встречались с ним на научных конференциях и семинарах, которые ежегодно организовывались в МВИЗРУ. Он, как адъюнкт, работал по фазированным антенным решёткам (ФАР). Информации о них было очень мало. Когда мы учились, то считалось что ФАР – фантазия, что их создание в ближайшем будущем не реально. Прибыв же во 2ЦНИИ, я сразу же столкнулся с ФАР, которая находилась в разработке. Виктор, встретив меня, и зная, что я имею дело с ЗРС С-300П, стал обходить меня со всех сторон, чтобы я хотя бы намёками рассказал ему состояние дел.