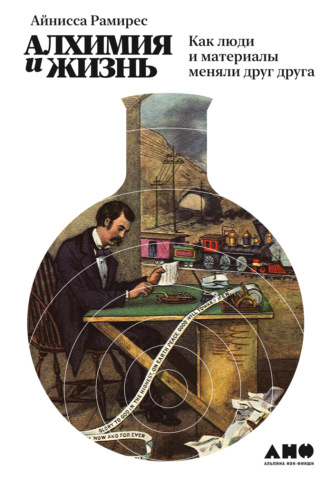
Полная версия
Алхимия и жизнь. Как люди и материалы меняли друг друга
Часы Бенджамина Хантсмена
Бенджамина Хантсмена очень раздражали его часы. Он родился в 1704 г. в Эпворте, в Англии, и имел репутацию умного, изобретательного и искусного часовщика[21]. В родной деревне он чинил всякие механизмы – и замки, и часы, и инструменты, и вертела[22]. Но, несмотря на инженерный талант и смекалку, он недолюбливал собственные часы. Их точность оставляла желать лучшего из-за низкого качества металлических пружин.
В самой глубине часового прибора есть тикающий механизм. В некоторых часах маятник качается из стороны в сторону; в маленьких карманных этот механизм состоит из баланса – колеса с тонкой спиралевидной пружинкой. Пружина баланса при работе часов расширяется и сжимается, как грудная клетка, передавая движение спусковому механизму, который и производит звук «тик-так». Если пружинка в часах «ика́ет», то они спешат; если «дышит» слишком глубоко – отстают. Для точности прибору необходимы гибкие, безупречные пружины со стабильными вдохами и выдохами.
К сожалению, качество доступных Хантсмену металлов не отличалось постоянством, поскольку ингредиенты в них не были равномерно распределены. Более того, в этих металлах содержались нежелательные примеси и включения. Из-за неоднородности материалов ритм часов был неравномерным, а из-за примесей и включений пружинки лопались. И то и другое плохо сказывалось на точности измерения времени.
Решая, как усовершенствовать пружинки в своих часах, Хантсмен обратил внимание на исходный материал – металл, называемый цементированной сталью. Цементированную сталь получали путем добавления углерода в железо, для чего сталевары помещали железные бруски в печь, раскаляли докрасна, а потом обкладывали углями[23]. Через пять дней в брусках содержалось большое количество углерода из угля, но значительная часть скапливалась у поверхности, как у плохо пропитавшегося маринадом стейка. Для более глубокого перемешивания сталеварам приходилось разогревать металл до размягчения, сплющивать его молотом в пластину, а затем складывать ее вдвое, чтобы металл стал более однородным. Этот метод, несомненно, был хорош для введения углерода, но никак не помогал очистить металл от посторонних примесей. Хантсмену необходимо было придумать другой способ.
Однажды Хантсмена в его часовой мастерской в Донкастере[24] посетила простая, но революционная мысль: расплавить железо полностью. В расплавленном металле ингредиенты будут перемешиваться лучше, и углерод распределится равномерно. Кроме того, посторонние примеси и включения легче жидкого металла и всплывут на поверхность по такому же принципу, как масло отделяется от воды, и тогда Хантсмен сможет их удалить.
Он начал работать тайно, избегая связей с внешним миром, и сотни попыток заканчивались неудачей. Записи о его исследованиях сгорели при пожаре, но свидетельства экспериментов остались в земле у его мастерской в Донкастере. Он безуспешно пытался размешать углерод и удалить посторонние частицы. После десяти лет работы, около 1740 г., Хантсмен наконец довел свою сталь до совершенства. Он отметил это достижение изготовлением часов.
Секрет успеха Хантсмена заключался в создании емкости для расплавленного металла. Этот контейнер – тигель – выглядел как высокая античная ваза. Керамический тигель мог выдерживать не только жар металла, но и его значительный вес. Чтобы создать такую емкость, Хантсмен размалывал привезенные из Голландии[25] горшки и добавлял графит и особую английскую глину, которую называли стоурбриджской. После этого Хантсмен разбавлял смесь водой, а затем один из его верных рабочих месил ее голыми ногами восемь-десять часов[26]. Голыми ступнями можно было не только выдавить из глины все пузырьки воздуха, но и обнаружить в ней камешки – а избавляться необходимо и от того, и от другого, иначе тигель треснет, и сталь прольется.
Вымесив глину, из нее лепили емкости, которые сушили, а затем обжигали в специальной печи. Когда тигли были готовы, начинался процесс варки стали.
Хантсмен оттачивал свой метод в новой мастерской неподалеку от города Шеффилда, который был центром сталеварения. Его рабочие складывали бруски цементированной стали в тигель, который затем опускали в печь на пять часов. Когда тигель доставали, рабочий умело переливал сталь в форму, стараясь при этом, чтобы в нее не попал верхний слой, образованный нежелательными всплывшими включениями. После того как вся сталь оказывалась в форме, получался однородный металл под названием тигельная сталь, именно из нее изготавливали тончайшие пружины для часовых балансов, которые раскручивались и скручивались равномерно. Благодаря изобретению Бенджамина Хантсмена появились более точные часы, которые можно было держать в кармане, вешать на стену или носить по всему Лондону, снабжая горожан временем, как Рут Бельвиль с ее «Арнольдом».
Узнав точное время в Королевской обсерватории, Рут Бельвиль с «Арнольдом» направлялась к лондонским докам, а потом нарезала круги по всему городу, пересекая попутно самые разные районы. Она начинала на востоке, принося время в доки, полные преступников и вони. Тик-так. После этого устремлялась в фешенебельную западную часть Лондона – на Оксфорд-стрит, Риджент-стрит и Бонд-стрит, где располагались дорогие магазины и ювелиры (в том числе и королевский ювелир[27]). Тик-так. Дальше она направлялась к северу на Бейкер-стрит, к фабрикам и промышленным зданиям. Тик-так. Следующий маршрут – на юг, к частным клиентам, живущим в пригороде. Тик-так. Потом она приносила время двум миллионерам, для которых точное время в доме было символом статуса[28]. Тик-так. И всю дорогу, пока шла через центр Лондона, по пути заносила время в банки. Тик-так. Наконец долгий день заканчивался, и Рут возвращалась домой в Мейденхед, а через семь дней весь цикл повторялся. Тик-так.
С «Арнольдом» в сумочке она шла и шла по мощеным улицам, покрытым угольной пылью и усеянным кучами лошадиного навоза. Когда средства позволяли, она пользовалась общественным транспортом, в том числе трамваем, метро и поездом. Городская жизнь была сложной, грязной и нервной. В туманном воздухе висел густой дым. Крики торговцев и цоканье лошадиных копыт сливались в непрерывную какофонию, в которую изредка врывался шум автомобиля – а она все несла время. Рут проходила милю за милей по этому городу, зарабатывая себе на хлеб. Она была предпринимательницей, когда женщины еще не имели права голоса. Рут описывали как крепкую, энергичную[29] особу с решительным характером, вдобавок она обладала талантом общения с людьми из разных слоев общества, живя в мире, где всем заправляли мужчины. Рут с «Арнольдом» были неотъемлемой частью лондонской жизни. Ко времени завершения ее карьеры в США установили другие часы, которые стали центром притяжения для людей. Рут справлялась с задачей одна, когда взбиралась на крутой холм на окраине города, чтобы узнать точное время. Когда ее карьера уже подходила к концу, жители Нью-Йорка толпами приходили в деловой район города с той же целью – узнать точное время.
В 1939 г. по адресу Бродвей, 195, на углу манхэттенской Фултон-стрит, в витрине головного офиса корпорации AT&T поместили инсталляцию в стиле ар-деко. Это были часы, но непростые. Они считались самыми точными общественными часами в мире. Каждый день, особенно между полуднем и двумя часами дня[30], сотни пешеходов совершали паломничество к этой витрине и держали наготове палец на заводной головке в ожидании, когда секундная стрелка достигнет верха, чтобы установить точное время на своих часах. Только охотникам за временем было невдомек, что эти часы обязаны своим существованием одному малоизвестному ученому, который нашел замену пружинам Бенджамина Хантсмена. Тиканье механизма за почти метровым циферблатом обеспечивалось кусочком кварца особого свойства. И командовал этим кварцевым кристаллом ученый по имени Уоррен Мэррисон.
Кристаллы, которые колеблются
В начале XX в. Уоррен Мэррисон, умный и спокойный канадский парень, казался чужаком, пришельцем из другого времени. И он потратил всю жизнь на то, чтобы это исправить. Он родился в Инверари[31], Онтарио, и первым достижением в его жизни был побег с отцовской пасеки, поскольку амбиции юного Мэррисона простирались куда дальше пчеловодства. Живя в этом отсталом городишке, Уоррен мечтал об электричестве и усердно учился в школе, чтобы попасть в Америку и исполнить свою мечту о будущем. И он своего добился.
В 1921 г., вскоре после женитьбы, Уоррен переехал в Нью-Йорк и начал работать в инженерном отделе компании Western Electric, впоследствии переименованном в Лаборатории Белла (Bell Laboratories, Bell Labs). Лаборатории представляли собой исследовательское подразделение телефонной компании American Telephone and Telegraph (или AT&T). За несколько лет до прихода Мэррисона AT&T поглотила Bell Labs, ранее принадлежавшие Western Electric. Лаборатории располагались по адресу Вест-стрит, 463, на углу Бетьюн-стрит, а само тринадцатиэтажное здание стоит там до сих пор. Надземная железная дорога, эстакада которой в наши дни превратилась в парк Хай-Лайн, пронзала строение насквозь на уровне третьего этажа, отчего то периодически тряслось. Этот бетонный небоскреб Bell Labs не отличался особой красотой, но, к счастью, простора для воображения там хватало.
В стенах этого здания бурлила активная деятельность «рабочих пчел» – ученых в костюмах и галстуках вроде Мэррисона. Полы из клена, голые стены, огромное количество окон, отчего помещения заливал дневной свет, позволявший экономить на электрическом освещении. Уоррен Мэррисон трудился на седьмом этаже, и его рабочий стол был завален специальными инструментами и научными приборами с выставленными напоказ проводами и электроникой. Ученым полагалось отрабатывать пять с половиной дней в неделю, однако исследования редко подчиняются расписанию.
Когда семья Мэррисонов увеличилась, они к концу 1920-х гг. переехали в Мейплвуд, штат Нью-Джерси. Бывало, Мэррисон, добавляя мед в свой чай, рассказывал двум дочерям о жужжании пчел на ферме, на которой вырос. Улыбчивый Мэррисон при относительно небольшом росте 5 футов и 10 дюймов (около 1,77 м) отличался раскатистым голосом. Часто, не замечая мощи своего голоса, он ставил младшую дочь в неловкое положение, когда объяснял ей задачки[32] в библиотеке. Его страсть к науке была такой же необузданной, как его голос.
В Bell Labs Мэррисон все время переключался с одного проекта на другой. То пытался привнести звук в кино, то изобретал способы посылать движущееся изображение по радиоволнам, чтобы создать телевидение. Днем и ночью он беспрестанно заполнял свои лабораторные журналы идеями о хитроумных электрических схемах, способных передавать электрический сигнал механическим деталям. Вскоре Мэррисона увлекла идея применения кварца в часах.
Одна из первых радиостанций, WEAF, принадлежала Bell Labs, и на самом деле на идею кварцевых часов натолкнуло радио. Станции вещают на определенных частотах, которые обозначаются числами на шкале приемника. Установить, насколько верно задана частота, было непросто, хотя и необходимо, иначе могли возникнуть помехи в эфире соседних радиостанций. Целью проекта Мэррисона в 1924 г. было создание прибора, издающего сигналы с точной и стабильной частотой, которая служила бы в качестве стандартной. Мэррисон взял крупный кристалл кварца, отпилил кусочек и поместил в свой электронный прибор. Кварц – невзрачный минерал с необычайным секретом: под воздействием электрического сигнала он вибрирует. Этот кварцевый кристалл колебался с определенной частотой, которая и стала эталоном для сигналов радиостанций. Генератор частот Мэррисона служил путеводной звездой для тех, кто потерялся в море радиоволн.
После успешного внедрения стандартов частоты для радиопередатчиков Мэррисон придумал еще одно новшество. Вместо того чтобы использовать колебания кристалла для подачи четкого радиосигнала, он заставлял кристалл колебаться с определенной частотой и отмерял время, подсчитывая количество колебаний. Такой способ подсчета и стал «линейкой»[33] для времени. С этой мыслью Мэррисон заставил колебаться природный кварц. Придав кристаллу форму бублика, он сумел добиться колебательных движений вверх-вниз, как у мембраны барабана. Такой кварц колебался сто тысяч раз в секунду, и эти колебания подсчитывались для измерения времени. Это было возможно благодаря малоизвестному свойству кварца. Его «танец с электричеством» вызван странным феноменом – пьезоэлектричеством.
Пьезоэлектричество открыли Пьер и Жак Кюри в 1880 г., в Париже. Молодые, чуть за двадцать, они стремились сделать себе имя в чрезвычайно популярной сфере научных исследований – минералогии. В то время многие другие ученые выкапывали из земли камни, изучали их и классифицировали по цвету, прозрачности и количеству граней. Братья Кюри не хотели останавливаться на этом и изучали свойства камней в разных условиях. Пьера завораживала симметрия геометрических форм, особенно в минералах. Кварц не имеет простой симметрии других кристаллов – например, алмазов или соли. Грани на одной стороне кристалла кварца не соответствовали аналогичным граням на другой стороне. То есть структура атомов в кристалле не имела зеркальной симметрии, следовательно, могли проявиться такие физические свойства, которые обычно гасились такой симметрией. Зная об этом, они сделали то, что пробовал мало кто из минералогов: сжали кристалл, чтобы посмотреть, что произойдет. После нескольких поворотов ручки губки тисков сжались, и Пьер с Жаком обнаружили нечто странное. Удивительным образом на гранях кристалла вдруг появился небольшой электрический заряд. Братья Кюри обнаружили, что кварц является пьезоэлектриком.
Спустя несколько десятилетий Мэррисон вернулся к необычным свойствам кварца; он придал маленькому кристаллу форму бублика и подверг действию переменного тока. От этого кристалл завибрировал. Его колебания можно было сосчитать и использовать для измерения времени. Но, точно так же, как и желе в вазочке, заставить кварц вибрировать с нужной частотой было непросто.
К 1927 г. Мэррисону пришлось изучить все свойства кварца. Результаты пригодились на следующей стадии работы – при создании электрических сигналов, которыми от кварца можно было добиться стабильных колебаний. Вибрации окружали Мэррисона всю жизнь – в дрожании стен от проходивших поездов, в окружавшем его в юности жужжании пчел, даже в собственном звучном голосе; и он приручил вибрации в кристаллах, чтобы с их помощью измерять время. К концу 1927 г. Мэррисону удалось создать кварцевые часы. В них использовалось кварцевое кольцо толщиной в один дюйм (2,5 см) и диаметром в несколько дюймов. Часы произвели фурор, и теперь жители Нью-Йорка могли узнать точное время, набрав номер ME7–1212[34]. Спустя примерно десятилетие желающие взглянуть на часы плотными рядами шли, почти не обращая внимания друг на друга, к витрине на углу Фултон-стрит, что на Манхэттене.
К тому времени, как ньюйоркцы стали приходить к часам Мэррисона, представление о дробном сне осталось лишь в воспоминаниях. Произошел переход от природных и биологических ориентиров к определению времени по часам. До того, как жизнью стали управлять часы, обычай сегментированного сна существовал во всем мире и практиковался на нескольких континентах. И хотя в этих культурах спали по-разному, их объединяла традиция дробить сон на несколько частей. Так как дробный сон был повсеместным, возникает вопрос: насколько он соответствует природе человека? Антрополог Мэтью Вольф-Мейер, автор книги «Дремлющие массы» (The Slumbering Masses), утверждает, что люди – «единственный биологический вид[35] с консолидированным сном». Исследователи обнаружили, что люди, живущие в индустриализированных культурах и привыкшие строить жизнь по часам, могут вернуться к сегментированному сну. Психиатр Томас Вер в эксперименте Национальных институтов здравоохранения США ежедневно в течение месяца погружал семерых мужчин[36] в темноту на четырнадцать часов в день. К концу экспериментального периода участники опыта спали по четыре часа, а в перерывах между периодами сна находились в состоянии дремы. Некоторые исследователи и историки считают, что ряд современных расстройств сна, особенно таких, для которых характерно пробуждение в середине ночи и неспособность сразу заснуть, восходят к обычному когда-то дробному сну. Роджер Икирч, профессор истории в Политехническом университете Вирджинии и автор книги «На склоне дня» (At Day's Close), считает, что это может быть «отголоском мощного эха того древнего режима сна[37]». Очевидно, в нашей дреме обнаруживает себя борьба между естественным временем и искусственным, на часах. Наше внутреннее ощущение, что пора спать, противоречит тому, что диктуют механические часы.
Казалось бы, мы должны спать лучше своих предков. Но от пятидесяти до семидесяти миллионов американцев страдают от расстройств сна или недосыпа[38]. Почти каждый восьмой американец, испытывающий проблемы со сном, прибегает к снотворным[39]. Каждому шестому диагностировали нарушение сна. Национальный фонд сна заклинает нас спать как минимум семь часов без перерыва, но большинству американцев удается только шесть. Причина плохого сна не в кроватях. «Условия для сна у нас сейчас лучше, чем когда-либо в истории[40]», – говорит историк Роджер Икирч. Кажется, плохой сон – это цена нашей неспособности жить без часов.
Сон – биологическая необходимость. В 1983 г. ученые наглядно доказали этот факт. Группа ученых во главе с Аланом Рехтшаффеном продемонстрировала в лабораторном эксперименте, как отсутствие сна сказывается на крысах[41]. В этом исследовании крысам не давали заснуть, что вызвало ряд медицинских проблем – от слабости и потери равновесия до снижения веса и отказа органов. Крысы умирали в промежутке между четырнадцатым и двадцать первым днем. А в человеческом организме отсутствие сна вызывает ухудшение деятельности мозга[42], ожирение и психологические проблемы.
Культурные нормы также влияют на сон. В некоторых странах привычка вздремнуть, сиеста, полуденный перерыв, а также манера клевать носом на людях глубоко интегрированы в социальные обычаи. Американцы же переутомляются, но все равно отказываются тратить время на то, чтобы вздремнуть, – и все из-за нашего пуританского наследия. Для того чтобы общество считало нормальным, если человек выпадает из времени на короткий сон или отдых, у такого обычая должен появиться авторитетный поборник. И хотя вздремнуть любили и Эдисон, и Черчилль, и Эйнштейн, сонные работники предпочитают заправляться кофеином. Конечно же, решение поспать – это добровольный выбор. И он требует лучшего понимания наших отношений со временем.
На протяжении всей своей истории человечество стремилось создать как можно более точные часы, но где-то на пути к этой цели мы разучились спать. В основе нашей дилеммы со сном лежит культурное восприятие времени. Часы – это линейка. И много поколений людей пытались делать часы все точнее и точнее, чтобы мы могли координировать свои взаимодействия в течение дня. Впрочем, в погоне за точностью часов мы забыли о самом времени. Такая работа началась примерно тогда, когда вела свой бизнес Рут Бельвиль. В другой части Европы ее товар, то есть время, рассматривали под микроскопом.
Альберт и Луи
Единый хронометраж всегда требовался и в офисной работе, и в повседневных делах, но для крупнейшей отрасли тех дней – железных дорог – он становился насущной потребностью. Синхронизированные часы обеспечивали прибытие локомотивов точно по расписанию, что уменьшало количество аварий и гарантировало пассажирам безопасность.
В 1905 г. в патентное бюро швейцарского города Берн поступило немалое количество заявок на изобретения, связанные со способами синхронизации часов[43], в частности для железных дорог. Чтобы воплотить идею в реальность, увлеченные делом изобретатели пытались понять, как установить одинаковое точное время на двух удаленных друг от друга часах. Решение этой задачи было вопросом жизни и смерти для пассажиров, а для изобретателя от этого зависело, будет ли он прозябать в безвестности или разбогатеет. Проверку надежности предлагаемых проектов поручили малоизвестному двадцатишестилетнему патентному эксперту, чья работа состояла в отсеивании заявок – он скрупулезно рассматривал, являются ли изобретения уникальными, хорошо ли продуманы и реально ли их воплощение[44]. Усилия служащего патентного бюро могли кануть в вечность, не будь его имя Альберт Эйнштейн.
Эйнштейн был не по годам умным юношей, который не жаловал субординацию и дисциплину. Он предпочитал работать в одиночку, так что не слишком преуспел в учебе. Завершив образование с сертификатом преподавателя математики, он попытался получить должность в университете, но лучшим местом, которое ему удалось найти, оказалось патентное бюро. В среде обитателей академической башни из слоновой кости патентное бюро считалось местом для ученых-неудачников. Никто из коллег в Эйнштейне не видел Эйнштейна.
Однако скромная должность Эйнштейна в патентном бюро стала подарком для человечества, поскольку открывала ему простор для размышлений; его пытливому уму будто предоставили спортзал для регулярных упражнений, и гений Эйнштейна расцвел. В течение дня он работал над решением практических задач, а по ночам дома корпел над собственными теориями. Два независимых занятия шли на пользу одно другому и оттачивали его умение просто объяснять сложные вещи.
Измерение времени во всем мире всегда стимулировали железные дороги, и к 1905 г., когда Эйнштейн размышлял над этим вопросом, решающий шаг к окончательному переходу человечества от естественного времени к тому, что на часах, уже состоялся. Это произошло в США 18 ноября 1883 г. В тот день было два полудня. Колокола отзвонили двенадцать раз в церкви Св. Павла около Уолл-стрит в городе Нью-Йорке. А затем четырьмя минутами позже[45] раздалось еще двенадцать ударов. Это и был день, когда в США ввели стандартное время и часовые пояса, и время стали отсчитывать от среднего по Гринвичу в Англии. Колокола возвестили о кончине местного времени и рождении всемирной системы часовых поясов для всех взаимодействий.
До создания стандартного времени регионы США были обособленными, и у каждого был свой часовой пояс. Многие города устанавливали собственное время по полуденному солнцу. Путешественник обнаружил бы, что в штате Мичиган двадцать семь временны́х зон, в Индиане – двадцать три, в Висконсине – тридцать девять, а в Иллинойсе – двадцать семь[46]. На некоторых железнодорожных станциях стены были усеяны циферблатами. Желая добиться согласованности и избавиться от путаницы, железнодорожные компании внедрили стандартное время, отсчитываемое от среднего по Гринвичскому меридиану, который проходит в Англии. Восемь тысяч станций, расположенных на почти шестистах независимых железнодорожных линиях, и пятьдесят три расписания были сведены в одну систему[47] с четырьмя часовыми поясами. Но железнодорожные сети (например, в швейцарском Берне) столкнулись с новой задачей – определения времени в самом поезде и его синхронизации с часами на станции, что не давало Эйнштейну соскучиться в патентном бюро.
В патентное бюро хлынул поток заявок от изобретателей, и многие из них предлагали передавать время с помощью электрического или беспроводного радиосигнала. Чтобы считать идею достойной регистрации патента, Эйнштейн установил следующий критерий: сигнал от одних часов к другим может быть передан, если уравнение учитывает его время в пути. В качестве примитивного способа синхронизации двух неподвижных часов можно было использовать сигнальную ракету. Но для того, чтобы это решение было эффективным, нужно учесть время, за которое ракета достигает определенной высоты. Подобным образом более современные методы могли полагаться на электрический сигнал для обозначения времени, но необходимо было учитывать и то время, за которое проходит путь и сам этот сигнал. Такие технологии считались отличным способом синхронизации часов, и подобные идеи успешно патентовали.
Но вот что случилось. В размышлениях Эйнштейна проблема синхронизации часов усложнялась, когда одни часы двигались, а сигнал точного времени отправляли при помощи света. Проводя патентную экспертизу таких заявок, Эйнштейн обнаружил существенные упущения не только в синхронизации времени, но и в том, как мы думаем о самом времени. И его открытию предстояло перевернуть с ног на голову наше понимание физического мира.
В патентном бюро Эйнштейн свел проблему синхронизации часов на станции с часами в поезде к простому вопросу: можем ли мы считать промежуток между «тик» и «так» в поезде равным тем «тик» и «так», которые воспринимает человек на станции? В 1913 г. Эйнштейн набросал черновой вариант своей идеи для системы часов, использующей свет. Он определил, что, если сигнал точного времени будет отправлен лучом света вверх в вагоне движущегося поезда и отражен зеркалом на потолке, человек внутри вагона и другой человек на станции увидят эту вспышку света по-разному. Их восприятие можно сравнить с тем, как видит мяч баскетболист, который его ведет, и как тот же мяч видят болельщики с трибун[48]. По мере продвижения по площадке баскетболист видит, как мяч скачет вертикально, вверх-вниз. Подобным образом человек в поезде увидит, как световой сигнал идет вверх, а потом вниз. А баскетбольные болельщики, сидящие на трибунах, видят движение мяча вверх по диагонали и вниз по диагонали. Человек на железнодорожной станции увидел бы траекторию светового сигнала в поезде, как в баскетболе – при движении вверх под одним углом, а вниз – под другим.

