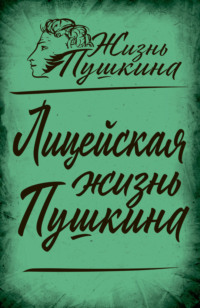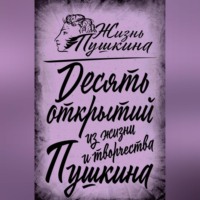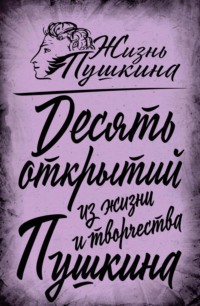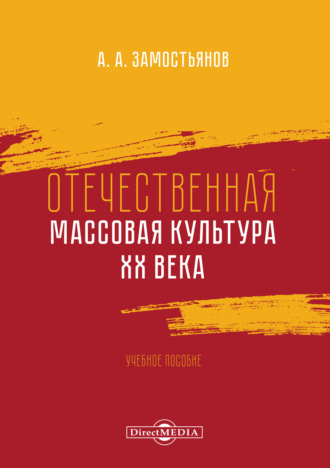
Полная версия
Отечественная массовая культура XX века
…О казусах, которые случались со сверхстарорежимным стариком в СССР, можно вспоминать долго. Многим из нас запомнился забавный диалог джина с работницей общепита: «– Падай ниц, о презренная, если тебе дорога жизнь! – Об этом не может быть и речи, – отвечала дрожащим голосом храбрая официантка. – Это за границей, в капиталистических странах, работники общественного питания вынуждены выслушивать всякие грубости от клиентов, но у нас… И вообще непонятно, чего вы повышаете голос… Если есть жалоба, можете вежливо попросить у кассирши жалобную книгу. Жалобная книга выдается по первому требованию…».
Интересные свидетельства глубокой укоренённости советской идеологии в мире детства мы находим и у Чуковского, в «От двух до пяти»: «нужно ли говорить, что в отношении к слову «советский» младшие дети вполне солидарны со старшими? В одной из публикаций Дома детской книги приводится такое восклицание пятилетнего мальчика о сказочном Иване-царевиче: Он хороший, Иван Царевич, как наши бойцы. Да?».
В 1949 году Николай Носов опубликовал повесть «Весёлая семейка» о том, как школьники соорудили инкубатор и вырастили цыплят. Эту книжку не осмыслить без экскурсов в историю трудового воспитания в СССР, без воспоминаний о Макаренко и благотворном влиянии производительного результативного труда на юные души. А написано так – что даже через пятьдесят лет после прочтения хочется бросить всё и мастерить инкубаторы. Через год появился «Дневник Коли Синицына», а затем и «Витя Малеев в школе и дома» – книжки про современных школьников, переосмыслившие традиции Кассиля и подготовившие Драгунского. А в начале 1950-х Николай Носов придумал Незнайку, причём явную идеологическую нагрузку приключения коротышки приобрели во время хрущёвской оттепели. И впрямь в трилогии о Незнайке заметна характерная для того времени вера в гуманный, очищенный коммунизм, уже не суровый, уже не требующий колоссальных жертв. Незнайка – современник кубинской революции и первых космических полётов. Современник кукурузизации и химизации, массового жилищного строительства и скандальной выставки в Манеже. Невольные отражения всех этих событий (порой – с опережением реальности) мы встречаем на носовских страницах. Незнайка – герой отечественный, наш, родной. Добрый недотёпа из русских сказок, находчивый дурачок. Но и у него есть литературные предки. Сам Носов в эссе «О себе и своём творчестве» поведал, что Незнайка – это «ребёнок вообще, с присущей его возрасту неугомонной жаждой знания и в то же время с неусидчивостью, неспособностью удержать своё внимание на одном предмете сколь-нибудь долгое время, – в общем, со всеми хорошими задатками… и недостатками…». Да, из Незнайки вышел настоящий живой мальчишка – обаятельный в детской самостоятельности, весёлый и справедливый друг. Писатель не отрицал того, что на роман о коротышках его сподвигло воспоминание о сказке Анны Хвольсон «Царство малюток: приключения Мурзилки и лесных человечков». Среди эльфов, окружавших главного героя Мурзилку были Чумилка-Ведун, Заячья Губа, Дедко-Бородач и – внимание! – Незнайка. Сказка А. Б. Хвольсон, восходящая, в свою очередь, к американским комиксам Палмера Кокса, появилась в 1887-м году. Образ Незнайки неотделим и от работы художника Алексея Лаптева – первого иллюстратора «Приключений Незнайки и его друзей» и «Незнайки в Солнечном городе». Итак, в 1953-м году, в журнале «Барвинок» началась публикация «Приключений Незнайки». Сама идея рассказать о городе коротышек была выигрышной. Этих героев легко можно было представить себе существующими в невидимом параллельном мире, рядом с нами – притаившихся в траве, как кузнечик из песенки. В 1954-м году Детгиз подготовил отдельное издание первой повести про Незнайку. По существу, это был цикл забавных рассказов о неординарном шалуне, который выделяется из среды функциональных героев. Думается, уже тогда Носов предполагал, что его герой будет эволюционировать, развиваться. Незнайка быстро стал вседетским любимцем Советского Союза. Вторую повесть – «Незнайка в Солнечном городе» – Николай Носов в 1958-м отдал журналу «Юность». «Юность» была литературным символом оттепели и детская повесть о коммунизме на его страницах закономерно соседствовала со стихами Евтушенко:
И пусть не в пример неискренним,рассчитанным чьим-то словам:«Считайте меня коммунистом!» —вся жизнь моя скажет вам.Отдельное издание, подготовленное всё тем же «дедушкой Гизом», вышло в том же оттепельном 58-м. Образ Незнайки усложняется: Носов смело в забавной сказке использует приёмы психологической прозы. Теперь мы замечаем в Незнайке и детскую влюблённость в Кнопочку, и поиски жизненного смысла… Коммунизм Солнечного города – это прежде всего рациональное использование научных достижений во благо сознательных граждан. Здесь даже «из корней одуванчика добывают резину, из стеблей – различные пластические массы и волокнистые вещества для приготовления тканей, из семян – масло». Нарушители коммунистической гармонии – превращённые в людей ослы – порождают целое движение последователей, ветрогонов. И, если ослиное влияние уподобить тлетворному влиянию Запада, из ветрогонов получатся отличные стиляги – те самые тунеядцы из журнала «Крокодил».
В популярной сказке пермского писателя Владимира Воробьёва «Капризка» (1960, полная редакция – 1968) мы встречаем схожую карикатуру на порицаемых обществом молодых модных тунеядцев. Но ничевоки Воробьёва напоминают хиппи, ещё не достигших пика своей громкой славы в мире и тем паче – в СССР. Фантазия Воробьёва сработала так, что их литературная длинноволосая коммуна предвосхитила появление подобных коммун в жизни… Персонаж Воробьева был быстрым ответом СССР на популярного шведского мальчишку с пропеллером. Первая повесть о Карлсоне вышла в отменном русском переводе Лилианы Лунгиной в 1957-м. Только Капризка все-таки – герой беспросветно отрицательный.
Герой Носова, как известно, всё преодолевал добрыми делами при помощи волшебной палочки. Мысли о совести и финальный романтические диалог с Кнопочкой ещё дальше уводят Незнайку от первоначального забавного образа. Если он и уступает людям Солнечного города в целеустремлённости и трудолюбии, то умение мечтать у Незнайки уже вполне коммунистическое. Писатели шестидесятых любили представлять грядущий коммунизм, это было в духе атомно-ракетного века. Из многих сказочных повестей такого рода упомянем фантазию Александра Светова «Веточкины отправляются в будущее». Современные мальчишки, уверенные в том, что быть человеком будущего «Это значит смелым, как наши космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев и Павел Попович. Это значит сильным, как олимпийский чемпион Юрий Власов. Это значит помогать товарищам, защищать слабых, не бояться говорить правду в глаза и не списывать задачки на уроках…», помогают людям будущего справиться с некоторыми проблемами, которые, оказывается, будут и при коммунизме.
А в 1964-м году в журнале «Семья и школа» начались публикации повести «Незнайка на луне». На Луне, в отличие от Солнечного города, царил закон чистогана. Мы давно привыкли к телевизионным сюжетам про биржу, а некоторые из нас и сами вписались в биржевую реальность. Кричащая толпа индивидуумов, чем-то напоминающая столь же экстатическую, но спаянную в коллектив, толпу, приветствовавшую Гитлера или Муссолини, уже не вызывает зрительского отторжения. А ведь, по совести говоря, биржа – омерзительное зрелище. Носов подробно рассказал про неё в «лунном Незнайке»: «Нужно сказать, что рынок, на котором торгуют акциями, очень отличается от обычного рынка, где торгуют яблоками, помидорами, картофелем или капустой. Дело в том, что продавцу фруктов или овощей достаточно разложить свой товар на прилавке, чтобы все видели, чем он торгует. Продавец акций носит свой товар в кармане, и единственное, что может делать, это выкрикивать название своих акций и цену, по которой он желает их продавать. Покупателю тоже остается только выкрикивать название тех акций, которые он хочет купить.
С тех пор как появились акционерские рынки, некоторые лунатики стали покупать акции не только для того, чтоб иметь долю в барышах какого-нибудь предприятия, но и для того, чтоб продавать их по более высокой цене. Появились торговцы, которые покупали и продавали акции в огромных количествах и получали на этом большие прибыли. Такие торговцы уже не ходили сами на рынок, а нанимали для этого специальных крикунов или так называемых горлодериков. Многие горлодерики работали не на одного, а сразу на нескольких хозяев. Для одного хозяина такой горлодерик покупал одни акции, для другого – другие, для третьего не покупал, а, наоборот, продавал.
Нетрудно представить себе, что творилось, когда такой горлодерик, попав на рынок, начинал кричать во все горло:
– Беру угольные скрягинские по семьдесят пять! Беру сахарные давилонские по девяносто, даю нефтяные по сорок три!..». И таких эпизодов на Луне много: не случайно третью повесть о Незнайке называют самоучителем выживания при капитализме. Вот и критик Александр Архангельский попытался восстановить собственное детское восприятие «Незнайки»: «Задним числом я себе, однако, отдаю отчет, что, на самом деле, это стало книжкой, перепахавшей целое поколение, потому что эта книжка нас адаптировала к будущему капитализму и вызвала неприязнь к светлому и счастливому социализму. Потому что самое неинтересное – это «Незнайка в Солнечном городе»… Когда Пончик зарабатывал деньги, я почему-то ему сочувствовал, хотя автор, наверное, стремился вызвать у меня прямо противоположные чувства. А когда Скуперфилд разорялся, мне было нехорошо. Мир чистогана и наживы оказался гораздо более увлекательным. Так же как показывать человеку игру за азартным карточным столом и говорить: «Смотри, парень, как все плохо, как они отвратительно играют на деньги». Парень смотрит и думает: «Мамочки, ведь это же интересно» (радио «Свобода», передача из цикла «Герои времени»). Не пытается ли Архангельский актуализировать себя-ребёнка с новых «завоёванных вершин»? Всякое бывает. Ведь А. Архангельский уже лет 15 пытается примирить буржуазность с православием, представляя её естественной нормой, к которой биологически и социально расположен каждый человек. Но, если «буржуины» Носова и привлекательны, то исключительно отрицательным обаянием. То есть, ребёнок, ощущая симпатию к Скуперфильду, отдавал себе отчёт, что это всё-таки запретный плод и постыдная любовь. И, конечно, такое восприятие было редкостью, присущей немногим детям, одарённым и экстравагантным. А вообще-то на носовской Луне было вполне тошно – хотя, конечно, «кто-то любит арбуз, а кто-то – свиной хрящик».
В финале Носов не ретуширует высокие чувства. Критики осуждали «Незнайку» за сентиментальность – и, признаемся, в шестидесятые годы писатель уже настолько сроднился с героем, что доверял ему вполне лирические монологи. Но именно такой финал заставляет юного читателя взглянуть на Незнайку серьёзнее. Каждый находил в нём что-то своё, сокровенное. «Незнайка сделал несколько неуверенных шагов, но туг же рухнул на колени и, упав лицом вниз, принялся целовать землю. Шляпа слетела с его головы. Из глаз покатились слезы. И он прошептал:
– Земля моя, матушка! Никогда не забуду тебя!
Красное солнышко ласково пригревало его своими лучами, свежий ветерок шевелил его волосы, словно гладил его по головке. И Незнайке казалось, будто какое-то огромное-преогромное чувство переполняет его грудь. Он не знал, как называется это чувство, но знал, что оно хорошее и что лучше его на свете нет. Он прижимался грудью к земле, словно к родному, близкому существу, и чувствовал, как силы снова возвращаются к нему и болезнь его пропадает сама собой.
Наконец он выплакал все слезы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся, увидев друзей-коротышек, которые радостно приветствовали родную Землю.
– Ну вот, братцы, и все! – весело закричал он. – А теперь можно снова отправляться куда-нибудь в путешествие!
Вот какой коротышка был этот Незнайка».
В 1961 году вышла сказка Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!». Настоящая волшебная сказка с превращениями, которая учит главному. Только труд и доброта помогают нам стать настоящими людьми. «Я хочу навеки быть человеком!», – эти волшебные слова можно считать эпиграфом ко всей детской литературе. Лозунг по-настоящему прометеевский.
Герои повести Юрия Томина «Шёл по городу волшебник» (1963) тоже прошли через череду испытаний, чтобы стать настоящими людьми. Волшебные спички эффектны, но разве они сравнятся со смелым и верным человеческим сердцем, с твёрдым характером и умением дружить?
Вопросы:1. Как сочеталось своеобразие советской детской литературы с заимствованиями из иностранных образцов?
2. Какие книги вы относите к жанру «революционной сказки»?
3. Какие черты характера присущи Незнайке? С кем из фольклорных героев можно его сравнить?
ЗАДАНИЕ:
Представьте план авторского сайта, посвящённого советской сказке.
Образцов и другие волшебники
Не литературой единой художники создавали мир советского детства. Перу всё того же Сергея Михалкова принадлежит давняя дружеская эпиграмма:
Известно всем, в конце концов,Что наш любимый Образцов —Артист не просто замечательный,А образцово-показательный.Сергей Владимирович Образцов – фигура многогранная, не одним только детям принадлежащая. Вспоминается его лирико-ироническая миниатюра с шариками на пальцах, под городской романс – гениальный минимализм. Советские художники вообще знали толк в выразительной лаконичности. Это хорошо известно кинозрителям: там, где кудесникам Голливуда нужно полтора часа – советские режиссёры и актёры создавали законченный образ за 15 минут, как Ростоцкий в «Майских звёздах». Не забудем, что и шолоховский эпос нередко приходил к читателю в газетных публикациях коротких свежих отрывков. Порой кажется, что всё современное искусство не стоит шарика на образцовском пальце… Мы будем часто вспоминать Образцова во всех главах книги; он – один из наших Виргилиев в потустороннем мире советской культуры. Замечательный факт: Образцов мог говорить вещи, на первый взгляд, ханжеские – а мы воспринимали и воспринимаем их как живую мысль… Так, он предлагал исключить из школьной программы книги И. А. Гончарова – «Обрыв», «Обломов», потому что детям не понять важной для этих романов эротической подоплёки. И в устах Образцова эта идея не выглядела дикой: он был по-своему прав, он заставлял себе верить, а это и есть учительский талант. Такие артисты, как Образцов, всегда работают «на аудиторию», они сориентированы на успех, на победу. Искусство ради искусства, тихое лабораторное тщеславие не свойственно людям подобной закваски. Каждый из них ощущал потребность в восприятии своего труду как явления национального масштаба. У каждого были учительские амбиции. Жизнь их можно представить как последовательность больших и малых побед. Но сколько внутренней свободы, сколько вдохновения в порывах этих победителей! Не так давно по телевидению повторяли давнюю, восьмидесятых годов, останкинскую встречу с Образцовым, с восьмидесятилетним кукольником. Каждый телезритель почувствовал контраст между Образцовым и нынешними поселенцами телеэкранов. Всё дело в том, что Сергей Владимирович, в отличие от всевозможных мэтров последнего времени, был умницей, но не был сушёной воблой. Был корректен, но не был закрепощён. Был лоялен к государственной системе, но был и свободен. В его ответах на вопросы не ощущалось судорожной калькуляции: «Сейчас я делаю рекламу бизнесмену N», «Сейчас я пробиваю новую мебель для своего театра», «Сейчас я покажу себя вольнодумцем, а в этой клетчатой рубашке – демократом»… Он был правдив – без глянца. Рамки, предложенные тем временем, позволяли ему быть таковым. И сам Образцов понимал, что в буржуазном обществе художник куда чаще вынужден фальшивить, чем при социалистической диктатуре. Образцов возник на современной телеэкране – и сразу прояснилась цена нашим свободам. Если он – продукт тоталитаризма, то почему у нынешних творцов отсутствует самостоятельность мышления? Или она не в моде? Тогда нужно задуматься о диктате моды, о диктате коммерциализации. О целях вчерашних и сегодняшних хозяев жизни. Вчерашним было нужно просвещение. Нынешним достаточно штампов. Именно штампы люто ненавидел Образцов, с ними боролся и смехом, и слезами. «Разрешённой смелости» (термин Маркса, считавшего это явление подлым) сейчас хватает, а честные кукольники уходят…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Цветаева М. И. О новой русской детской книге. // Цветаева М. И. Собрание сочинений в семи томах. Т. 7., с. 324, 329. М., 1994.
2
Петровский М. С. Книги нашего детства. М., 1986.
3
Гаспаров М. Л. Записки и выписки. М., 2001, с. 46.
4
Михалков С. В. От и до… М., 1998, с. 43, 44.