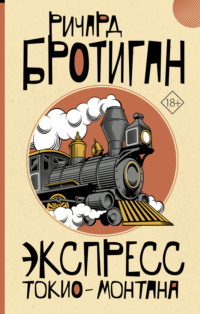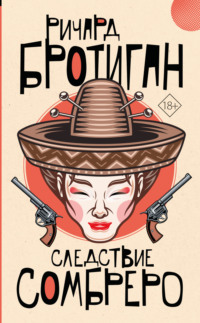Чудище Хоклайнов
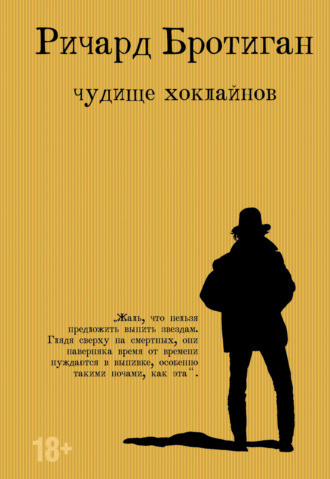
Чудище Хоклайнов
Жанр: контркультуразарубежная классикалитература 20 векасоциальная прозамистическая прозановая классикаамериканская классика
Язык: Русский
Год издания: 2021
Добавлена:
Серия «Романы-бротиганы»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента