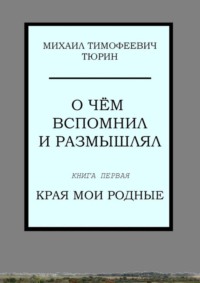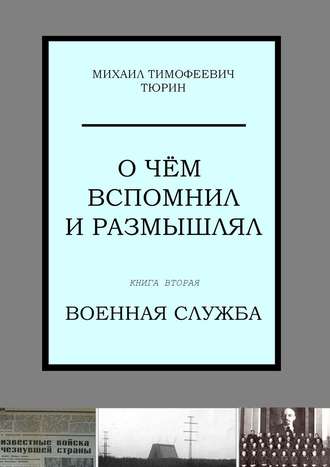
Полная версия
О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба
Полки каждого корпуса располагались в два эшелона. Первый (дальний) находился на расстоянии около 85 км, а второй (ближний) – на расстоянии около 45км от Москвы. Привожу, конечно, средние расстояния, так как в зависимости от рельефа местности ЗРП смещались в ту или иную сторону от расчётной точки, намеченной по карте на дуге соответствующего радиуса. Но при любом отклонении объекта от расчётной точки всегда обеспечивалось достаточное перекрытие секторов ответственности смежных полков.
Для доставки ракет с технических баз (баз хранения) на позиции ЗРП вокруг Москвы были специально построены две кольцевые дороги с бетонным покрытием – дальнее кольцо на расстоянии 70—100 км и ближнее – примерно в 40—50 км от Москвы. Вдоль кольцевых и радиальных дорог были проложены кабельные линии служебной связи. Строительство этих дорог способствовало значительному развитию транспортных связей в Московской и смежных с ней областях. Это как раз пример того, когда расходы на военные нужды способствуют и развитию народного хозяйства. Ныне тех «бетонок» уже не узнать – во многих местах они значительно расширены, покрыты асфальтом и обеспечивают огромные перевозки грузов в центральном регионе России, способствуют освоению новых территорий, ранее исключённых из оборота по причине отсутствия дорог.
О зенитном ракетном полке системы С-25
Каждый ЗРП С-25 в своём составе имел станцию наведения ракет (СНР) Б-200, зенитный ракетный дивизион в составе двух батарей по 5 взводов в каждой и пункта подготовки ракет (ППР), некоторые вспомогательные подразделения. Каждый взвод отвечал за обслуживание и обеспечение боевой готовности 6 ракет, так что зенитный ракетный дивизион мог одновременно установить на пусковые столы 60 ракет типа В300 (вертикального старта, длиной около 12 м. и весом более тонны). На пусковые столы ракеты устанавливались из транспортного положения вместе с полуприцепом, на котором ракета была доставлена с технической базы или из ППР, с помощью специальных гидравлических подъёмников. В момент зависания над столом огромная ракета держалась только на двух специальных цапфах, входивших в такелажные углубления в верхней части корпуса ракеты. После установки ракеты на стол и фиксации пускового замка цапфы выводились из такелажных углублений, которые тут же автоматически захлопывались специальными лючками для исключения нарушения аэродинамики ракеты. Затем к ракете пристыковывался кабель с так называемым отрывным штекером, по которому запитывалась вся бортовая автоматика. Ракета переходила в режим подготовки к пуску, а транспортный полуприцеп опускался в исходное состояние. Перечисленные операции требовали предельной аккуратности в управлении подъёмным механизмом и элементами крепежа, достаточной сноровки, чтобы раскачивающуюся на цапфах как маятник ракету установить направляющими «пальцами» в соответствующие углубления (с общим замком) пускового стола. Всеми этими работами, в том числе и заправкой ракеты окислителем и горючим, осуществляемой перед её подъёмом, руководил командир взвода. Картина установленных на столы ракет была впечатляющей, хотя лес и скрадывал высоту, но на открытом пространстве, как в степи на полигоне Капустин Яр, подготовленные к старту ракеты со своими стабилизаторами и воздушными рулями смотрелись как мусульманские минареты (высота всей сборки превышала 13 м).
В зенитном ракетном дивизионе в режиме повседневного дежурства (готовность №3) ракеты содержались под брезентовыми укрытиями на транспортных полуприцепах со снаряжённой боевой частью, но не заправленные компонентами ракетного топлива. Окислитель и горючее хранились в баках из нержавеющей стали на полуприцепе. При получении команды на заправку боевым расчётом, экипированным в защитную одежду и в изолирующих противогазах, осуществлялась перекачка компонентов из ёмкостей полуприцепа в баки ракеты. Без изолирующего противогаза случайный пролив окислителя мог привести к серьёзным отравлениям, вплоть до летального исхода. Мне запомнился тёмно-жёлтый дым, идущий от вытекших из заправочного пистолета нескольких капель окислителя, и едкий запах, проникающий в лёгкие через обычный фильтрующий противогаз даже на расстоянии нескольких десятков метров. Поэтому расчёты заправки тренировались постоянно, доводя свои действия до автоматизма и безусловного выполнения инструкции. Только такой подход обеспечивал сохранение здоровья и даже жизни. Должен сказать, что за четыре года службы в этой системе несчастных случаев, связанных с заправкой ракет, в нашем корпусе не было.
В заправленном состоянии ракета могла находиться ограниченное время, так как не выдерживали баки. После этого было два пути – либо запустить ракету, либо произвести аварийный, технически сложный, слив, а затем подвергать баки ракеты очистке и нейтрализации, что, конечно же, укорачивало её срок хранения. Поэтому боевые ракеты в полках заправлялись только в случаях действительной необходимости их пуска по воздушным целям. И только в угрожаемый период ракеты могли заправляться ещё на базах хранения, но таких случаев за мою службу не было. К слову, все перевозки ракет с баз в полки и обратно производились только в ночное время под постоянным контролем всех должностных лиц и при строжайшем обеспечении мер безопасности, в том числе и при возможных утечках окислителя во время транспортировки.
Вернёмся, однако, в дивизион. После установки заправленных ракет на пусковые столы боевые расчёты укрывались во взводных железобетонных бункерах, выдерживающих воздействие взрыва боевой части и самой ракеты в случае аварийной ситуации, и защищающих личный состав от воздействия пламени двигателя и летящего гравия. В каждом взводном бункере находилась и вся стартовая автоматика на шесть столов.
Постоянное боевое дежурство во всех полках несли по два взвода, но количество дежурных ракет иногда было и меньше двенадцати из-за необходимости в соответствии с графиком, завозить ракеты в ППР для проверки бортовой автоматики и других работ.
И немного «из будущего», о непредвиденном. В 1998 году мне предложили возглавить работы по утилизации ракет на бывшей ракетной базе в Часцах (километрах в десяти от Голицыно). Удивлению моему не было предела, когда увидел на стеллажах под открытым небом около сотни своих «старых знакомых» – ракет В300 207-й модели, с которыми расстался в 1961 году, т.е. более 35лет тому назад. За истекшие годы, со времени снятия в 1988 году системы С-25 с вооружения, оборудование и все сооружения базы, особенно заправочные комплексы, были сильно разрушены и временем и отсутствием надлежащего присмотра и ремонта. Но ракеты после прошедших со времени их поставки на базу десятилетий, постоянно подвергавшиеся воздействию переменчивой подмосковной погоды, выглядели, как только что вышедшие из ворот завода. Ещё большее, теперь уже восхищение, у меня вызвало внутреннее состояние ракеты. Пиропатроны, предназначенные для запуска ампульной батареи, открытия клапанов подачи горючего и окислителя в двигатель, воздуха высокого давления из шар-баллонов своим потребителям сработали очень чётко при подаче на них нужного напряжения. Обезопасив таким образом работающих (баки ракеты на отсутствие в них компонентов топлива были проверены мной ранее), вскрыли лючки для доступа к радиооборудованию. Поразительно, но даже минимальных следов коррозии или других разрушающих признаков визуально совершенно не обнаруживалось. Всё «нутро» этого сложнейшего технического устройства было совершенно чистым. Невольно вспомнился и куратор системы С-25 Л. П. Берия, сумевший в тех сложных условиях организовать производство сложнейшей ракетной техники с таким запасом прочности по её сохранности.
Но это воспоминания «из будущего», а я был назначен в 1957 году на должность старшего техника координатной системы станции Б-200 и приведенная выше, даже в очень неполном изложении, информация о зенитно-ракетном дивизионе являлась запретной, мягко выражаясь, ненужной для выполнения своих прямых обязанностей на конкретной аппаратуре. Мне же, допущенному в конце второго года службы к исполнению обязанностей оперативного дежурного КП полка, пришлось осваивать технологию перевозки ракет, порядок проверки прибывающих с баз ракет на ППР, порядок хранения, организацию заправки и подготовки их к пуску, принципы работы и устройство стартовой автоматики, охрану позиций и другие вопросы, касающиеся обеспечения боевой готовности средств полка. В обязанности оперативному дежурному вменялось руководство сокращёнными боевыми расчётами СНР и зенитно-ракетного дивизиона, подъём полка по «тревоге» и приведение средств полка в боевую готовность, в том числе и с заправкой ракет, а в случае неприбытия на КП командования – руководство боевыми действиями. Это были для меня дополнительные не менее шести 12-часовых дежурств в месяц, причём совершенно неоплачиваемые. При этом никто не снимал с меня обязанностей по обслуживанию закреплённой за мной аппаратуры, по несению дежурства в качестве дежурного техника и начальника боевого расчёта СНР.
Эти дополнительные нагрузки начались через два года, а пока, через месяц пребывания в полку, пришёл только допуск по линии компетентных органов (как было принято тогда говорить), разрешающий вход на объект и пользование служебной литературой для освоения своих обязанностей в соответствии с занимаемой должностью.
Станция наведения ракет Б-200. Начальники и сослуживцы
До сих пор не изгладились из памяти первые впечатления от знакомства с СНР. В отличие от радиотехнических войск боевая позиция станции была окружена несколькими рядами колючей проволоки. К позиции, окружённой с трёх сторон лесом, подходила одна единственная бетонная дорога, упирающаяся в КПП, дежурство на котором постоянно нёс часовой, он же по совместительству и контролёр, вооружённый автоматом ППШ с двумя снаряжёнными магазинами. Сразу же за КПП справа от дороги располагалось здание ремонтной мастерской со складом запасных деталей, одноэтажный кирпичный домик с караульным помещением, библиотекой секретной литературы и комнаткой отдыха боевого расчёта офицеров. А далее бетонная дорога выходила на угол покатого кургана («бугра») длиной метров семьдесят и шириной около 35 метров, над которым возвышались оголовки вентиляционных шахт с небольшими закрытыми люками на боковой стенке. Перед западным торцом этого кургана была сравнительно больших размеров бетонная площадка, на дальней стороне которой находились какие-то пока с непонятным для меня назначением вертикально-наклонные углубления, покрытые металлом, с подъёмом на уровень площадки в сторону от «бугра». Таких углублений довольно приличных размеров было четыре и они оказались, как потом позже узнал, антеннами для передачи команд на борт ракеты и приёма сигналов от радиоответчиков ракет (каждая на своей частоте). В самом же «бугре» в большой бетонной нише я узнал антенны, их было две, необычной и невиданной мною доселе конструкции – двойные, сложенные из двух треугольников со сглаженными углами так, что в плане конструкция напоминала шестиконечную сионистскую звезду. Одна из этих конструкций вращалась перпендикулярно земле, вторая была развёрнута относительно первой на 900 и под углом в 450 относительно горизонта. Увиденное уже внушало какое-то смутное чувство загадочности и сложности конструкции, но когда представилась возможность разобраться, то оказалось всё просто. Так как СНР работала в сантиметровом диапазоне, то в качестве антенн использовались усечённые параболоиды вращения, размер которых был выбран исходя из необходимости создания диаграммы направленности нужной конфигурации. Двойная же конструкция позволяла увеличить частоту облучения цели, которая при выбранной скорости вращения антенны составляла 6 Гц. Именно с такой частотой менялась развёртка на индикаторах наведения, синхронизированная, естественно, с вращением антенн. Такое «дёргание» индикаторов СНР воспринималось очень непривычно по сравнению с плавным движением развёртки на экране индикатора кругового обзора РЛС П-10 или П-20 (30) в радиотехнических войсках.
Метрах в пятнадцати-двадцати от этих антенн в бетонном обрамлении находилась тяжёлая стальная дверь с мощными запорами. За дверью шёл бетонный коридор до конца «бугра», заканчивающийся такой же дверью, выводящей на другую сторону сооружения, в торце которого находились подземные ёмкости с запасом топлива для трёх дизель-электрических генераторов, смонтированных внутри сооружения, выхлопные трубы которых возвышались тут же. Конечно, все сведения я не мог получить в первый же день моего пребывания на объекте, на это требовалось время и, прежде всего, на освоение аппаратуры по назначенной должности, куда и вёл меня мой новый начальник через такую же массивную стальную дверь, расположенную примерно в середине коридора, открывшую вход уже в нутро сооружения. Очередную, уже более лёгкую дверь открыл мой начальник, как бы распахивая сразу тот объём аппаратуры, которую мне следовало освоить. Увиденное в зале прямо после двери меня если и не потрясло, то заставило на какое-то время остановиться и замереть с впервые в жизни явившимся чувством оцепенения, робости или боязни того, что «тут и до смерти ничего не изучишь». Честное слово, это, может быть, и не было произнесено вслух, но то, что я так подумал, является абсолютно достоверным. В училище я привык к аппаратуре, размещённой в КУНГах, т.е. к относительно небольшим объёмам. А здесь слева от меня вдоль стены стояло пять или шесть шкафов (это уже больше, чем на РЛС П-10 и даже П-20), а справа открывался большой зал с рядами огромных, выше человеческого роста, шкафов, закрытых стеклянными дверями. В конце зала угадывались ещё двери, за которыми, несомненно, находится тоже аппаратура. И вновь возникла та же мысль.
Мои созерцательные, в необычном для меня состоянии, размышления прервал мой куратор Валентин Волостных – дескать, нечего изображать из себя барана перед новыми воротами. Он был уже старший лейтенант, а это означало, что после окончания им Горьковского зенитно-ракетного училища, в котором и изучалась СНР Б-200, прошло уже три года. А за три года практической работы на координатной системе можно было достичь и определённых успехов. По-видимому, это и бралось в расчёт, когда мне в наставники начальник группы и определил Валентина. Как и оказалось, из всех старших техников на координатной системе он был наиболее знающим и потому авторитетным. На этой же аппаратуре с таким же стажем как у Волостных и достаточно высоким уровнем подготовки работали Володя Визенько, сверкавший целым рядом золотых зубов, так как свои зубы и часть носа он по причине лихой езды на своём ИЖ-49 оставил на бетонке в районе деревни Назарьево и Иван Половой – маленький, кривоногий и как все малорослые люди, с заметными амбициями. Уникумом был Серёга Машкин, тоже, как и Половой, небольшого роста, но круглый, как колобок. Убеждённый холостяк и весельчак, относящийся к технике не как к кормилице, а как к обременению и потому изучавший её, по его же определению, «методом индукции» – в отсутствие начальников расстилал за шкафами большие схемы и на них восстанавливал силы, израсходованные в предыдущую поездку на гулянки.
Вот такими были к моему приходу «координатчики». В этом же зале старшим техником на аппаратуре выработки команд был Слава Румянцев, хорошо подготовленный и довольно эрудированный специалист, холостяк с весёлым нравом, склонный к неординарным поступкам, например, за бутылку водки проглотить живого лягушонка, прославившийся в полку ещё и лозунгами, развешанными им в комнате общежития, типа: «Воин ПВО! Ты и дома на работе!», «Не спеши выполнять приказание, ибо последует его отмена!», «Недостаток пищи компенсируй сном» и др. Я не привожу здесь изречений более крепкого содержания, коих на стенах комнаты вместе с соответствующими картинками было предостаточно.
В этот же зал были назначены и прибывшие в полк в один день со мной Анатолии Миронов и Ламонов. С офицерами на других устройствах станции пока близко познакомиться не представлялось возможным, так как все были заняты делами на своих рабочих местах, и свободного времени для общения оставалось очень мало.
Нужно сказать, что полки 1-й армии на тот момент были укомплектованы в значительном числе офицерами так называемого «сталинского призыва», призванными из запаса младшими лейтенантами. Ими были в основном (процентов на 80) заняты должности командиров взводов дивизиона. На СНР таких «призывников» было очень мало, так как уровень их технической подготовки не позволял усвоить сложную аппаратуру и успешно работать на ней. Но и здесь тоже были исключения: запомнился на антенных системах П. Круглик, агроном по образованию, но имевший несомненные дарования в обслуживании механических устройств. На энергетическом оборудовании трудился Н. Юдин, имевший подготовку в объёме техникума, вполне состоявшийся специалист, изобретатель и модернизатор своего телевизора КВН-49.
На руководящих инженерных должностях начальников групп офицеров с высшим образованием было очень мало. Мои начальники в разное время Е. Антонов и В. Фриск самоотверженно продолжали учёбу заочно в Энергетическом институте. На должность начальника СНР со штатной категорией «подполковник» был назначен старший инженер-лейтенант Ю. А. Розанов, выпускник КВИРТУ. Офицеры с высшим образованием начали прибывать в полк только в 1959 году. Это были выпускники Киевского и Минского высших училищ.
Постижение мною координатной системы проходило, в основном, самостоятельно по классическому образцу – изучение технического описания, инструкции по эксплуатации и других документов, консультации «знатоков», практическая настройка, правда, под присмотром моих кураторов. Параллельно с изучением своей аппаратуры от общения с офицерами получал и некоторые сведения о других устройствах станции. Как и всё в этом мире проходит, так и через несколько дней моего знакомства с аппаратурой СНР прошли все мои волнения и робость. Состояние обречённости, связанное с мыслью о невозможности познания всего этого нагромождения «в металле» человеческих идей, с этих пор меня больше никогда не посещало, даже когда через много лет волею судьбы я был приставлен к аппаратуре, которая по своей сложности и объёму в десятки и даже сотни раз превосходила действительно сложный на тот период времени комплекс – систему С-25.
Обучение моё продвигалось успешно и, хотя встретился ряд совершенно новых для меня схемных и конструктивных решений, я был вполне удовлетворён фундаментальностью подготовки в училище по основам радиотехники, электротехники, радиолокации. Несомненно, в успешном овладении специальностью сыграла роль и моя самостоятельная подготовка, да и просто любознательность.
Вся радиоэлектронная аппаратура СНР конструировалась на электровакуумных лампах, полупроводники были представлены лишь небольшой номенклатурой диодов. Это было связано с тем, что в СССР отсутствовала более совершенная элементная база, а в конструкции СНР и ракеты использовались схемные и конструктивные решения, в значительной степени позаимствованные из немецких разработок по созданию ими во время войны противосамолётной обороны с использованием ракет ФАУ-2. Применённая элементная база практически и определяла геометрические размеры аппаратуры. Некоторые конструктивные решения даже с точки зрения начала 50-х годов были весьма примитивными. К числу таких решений относилась и система поддержания заданной температуры в термостатах кварцевых генераторов, коих было по шесть штук в каждом координатном шкафу (всего шкафов было 20). В качестве исполнительных элементов здесь использовались механические шаговые искатели, применяемые в то время в автоматических телефонных станциях. Так как координатная аппаратура считалась небоеготовой в случае отклонения температуры в термостате от требуемой, то и приходилось, иногда очень долго, часами, ждать, когда система регулирования «отшагает» до нормы. Очень инерционная система. Этот архаизм был устранён только в 1959 году внедрением фантастронных генераторов, что резко повышало боеготовность СНР и сократило время её ввода в боевой режим.
Своё обучение на координатной системе не удалось довести до логического завершения – сдачи экзамена на допуск к самостоятельному обслуживанию аппаратуры.
Уже в декабре командиром полка мне было предложено перейти на КП полка, здесь же, за толстой стеной, на должность офицера пуска (так называлась должность). В денежном измерении эта должность никаких преимуществ не имела, но была более хлопотной, более напряжённой и во время боевой работы находилась под постоянным контролем командира и начальника штаба полка, находившихся здесь же за спиной на расстоянии вытянутой руки. Такое «соседство» вполне нормально при высокой профессиональной подготовке указанных должностных лиц, но при отсутствии таковой, что не так уж редко бывало, вело иногда и к серьёзным последствиям. Так уж была построена система С-25, что офицер пуска был определяющим элементом в цепи управления стрельбой. Только у него под рукой было пять кнопок «Пуск», только ему предписывалось принимать решение о моменте нажатия кнопки и посему неграмотная требовательность («давай, пускай!») стоящих «над душой», точнее за спиной, командиров могла привести и к срыву выполнения боевой задачи. А происходило это по некоторым техническим причинам, которые командирами не всегда понимались правильно. Уровень развития радиолокационной техники того времени не позволял автоматически, а следовательно, и оптимально определять момент пуска ракеты (исходя из её энергетических возможностей) по цели, летящей на определённой высоте и с определённой скоростью. Поэтому определение оптимального момента пуска производилось «в ручном режиме». Зоны пуска для разных скоростей и высот полёта цели были рассчитаны заранее, конечно, с некоторой дискретностью. Эти расчётные зоны были нанесены на специальные планшетки, из которых офицер пуска выбирал нужную и вставлял её в специальные пазы перед экраном индикатора наведения. Это был так называемый «прибор пуска ПП-32». Так как между планшеткой и экраном был зазор примерно в 1 см., то у каждого смотрящего на индикатор была своя «точка зрения», определяемая величиной параллакса. А если ещё учесть, что скорость полёта цели определялась вручную, а значит с ошибкой, то становится понятным сколь большая ответственность ложилась на правильный, с точки зрения оптимального решения, выбор момента нажатия на кнопку «Пуск». Эту задачу могли решить только хорошо подготовленные, натренированные и, я бы сказал, «чувствующие» поведение цели операторы – офицер пуска совместно с работающим за этим же индикатором офицером наведения. Важнейшим звеном в боевой работе, обеспечивающим успешность стрельбы, несомненно являлся офицер наведения, главной задачей которого было произвести захват цели с помощью специальной ручки наведения с кнюппельным механизмом и передать её на автоматическое, а в случае неустойчивости автоматического – на ручное сопровождение. У офицеров пуска и наведения были свои пульты управления, но индикатор обнаружения был общим, что и требовало очень тесного взаимодействия и взаимозаменяемости этих двух специалистов. Для сопровождения цели в ручном режиме с пульта офицера наведения передавались соответствующим образом команды на пульты операторов ручного сопровождения (РС) в координатах азимут-дальность и угол места-дальность. Особо подчеркну, что натренированность операторов РС у нас была столь высокой, что часто по величине ошибок сопровождения они не уступали автоматическому режиму.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.