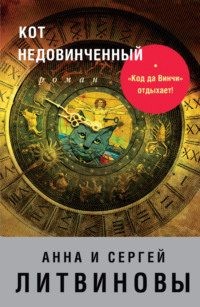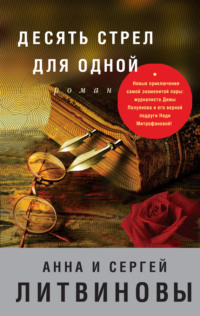Многие знания – многие печали. Вне времени, вне игры (сборник)

Полная версия
Многие знания – многие печали. Вне времени, вне игры (сборник)
Язык: Русский
Год издания: 2014
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу