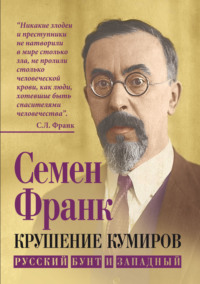Полная версия
Непостижимое
Поскольку мы сознаем это вездесущие непостижимого для нас, мы отдаем тем самым себе отчет в высшей степени существенном общем факте, определяющем все отношение нашего знания к самой реальности. Мы формулируем это общее положение так: всякая вещь и всякое существо в мире есть нечто большее и иное, чем все, что мы о нем знаем и за что мы его принимаем, – более того, есть нечто большее и иное, чем все, что мы когда-либо сможем о нем узнать; а что оно подлинно есть во всей своей полноте и глубине – это и остается для нас непостижимым. Лишь тупое филистерство может упускать из виду этот фундаментальный факт; кто еще сохранил подлинное чувство реальности, тот его всегда ощущает. Сколь бы мудр, опытен, учен ни был человек – всякая частица реальности, если только он способен увидать ее в ее подлинном существе, не искаженном и не умаленном его слепотой и гордыней, говорит ему об этом. Лучше всего могут поведать нам об этом поэты; и нет поэта, который не исходил бы из именно такого восприятия бытия: ибо быть поэтом и значит в конечном счете не что иное, как быть в состоянии выразить в словах и дать нам почувствовать непостижимое и несказанное. Поэт боится обычных людских слов: «они не видят и не слышат, живут в сем мире, как впотьмах» (Тютчев);[24] «они обо всем говорят так отчетливо: это – собака, а то – дом, здесь – начало, а там – конец…; они знают все, что было и будет; нет горы, которая была бы им чудесна» (Р.М.Рильке)[25]. Напротив, поэту известно: «Но бытие еще по-прежнему волшебно; во множестве мест оно рождается из своего источника, есть игра чистых сил, к которым никто не соприкоснется, кто не умеет преклонить колена и восхищаться. Слова нежно исходят из несказанного» (Р.М.Рильке)[26].[27]
Таким образом, неведомое – предмет, на который направлен наш – частично его открывающий – познавательный взор, – взятый во всей полноте и глубине его реальности, всегда остается для нас непостижимым.
Глава II
НЕПОСТИЖИМОЕ ПО СУЩЕСТВУ В ПРЕДМЕТНОМ БЫТИИ
Теперь нам надлежит обсудить вопрос, в какой мере правомерно упомянутое нами выше воззрение, что предмет знания, во всяком случае сам по себе, по своему существу или своей природе – или, что то же самое, для (гипотетически мыслимого) всеобъемлющего и бесконечного познающего сознания, – не может быть непостижимым, – что, напротив, всякая реальность в принципе «изъяснима», т. е. выразима в «ясных и отчетливых» понятиях.
Поскольку мы представляем себе предмет знания, неизвестное для нас бытие, во всей его полноте, не чем иным, как совокупностью (хотя бы бесконечной и потому для нас недостижимой) однозначно определенного, расчлененного многообразия содержаний, – per difinitionem очевидно, что мы не имеем здесь дела с чем-либо по существу непостижимым. Мы мыслим при этом целокупное бытие как некую сумму частей – или как совокупность членов – хотя бы и бесконечно многих членов; и иначе мы и не можем его мыслить, поскольку мы должны отождествлять все сущее в его собственном существе с идеалом исчерпанно познанного, и притом познанного в понятиях. Ибо этот идеал и означает сумму или систему (хотя бы и бесконечную) определенностей, так что неизвестное как целое – x как таковое – должно мыслиться нами состоящим само по себе из совокупности определенных содержаний A B C D … Y Z. Более того, только потому, что мы воспринимаем бытие как совокупность таких определенностей, т. е. безусловно однозначно определенных в себе (хотя частично от нас скрытых и нами не определенных) содержаний, реальность впервые становится для нас предметной. Дело в том, что под «предметом», или «предметным бытием», или – что пока для нас то же самое – под «действительностью», под «тем, что есть на самом деле», мы именно и разумеем то, что мы мыслим как сущее с непоколебимой прочностью и однозначной определенностью, – то, что есть «именно то, что оно есть»; и задача нашего познания, как восхождения от смутных и бессвязных представлений к ясным, отчетливым и без пробела внутренне связанным между собой понятиям, есть именно задача уяснения для нас сущего в своей определенности предмета. И под «истиной» мы разумеем при этом именно adaequatio intellectus et rei – совпадение наших понятий с сущей в себе определенностью самой предметной реальности.
Сколько бы верного ни заключала в себе такая мысль, с другой стороны, остается все же совершенно очевидным, что ею не исчерпывается полнота и истинный смысл того, что мы называем предметным бытием. Если последнее и должно мыслиться обладающим совокупностью точно определенных в себе – т. е. независимо от их познанности нами – «содержаний», как бы таящем их в своем лоне, то все же оно не совпадает просто с ними. Оно «имеет» эти содержания, но не «есть» просто их совокупность. Поскольку мы не даем себя спутывать «идеалистическим» предубеждением и рассматриваем дело непредвзято и свободно, стараясь дать себе точный отчет в истинном соотношении, совершенно очевидно, что то, что мы разумеем под «предметным бытием», «действительностью» или «реальностью» (употребляя эти слова здесь как синонимы), есть что-то совсем иное, чем всякое логически – в понятиях – фиксируемое «содержание». Если бы оно было само по себе таким «содержанием», то оно совпадало бы с чем-то вроде сущего в себе «образа» или «картины»; но оно не есть образ – оно есть именно бытие. Мы сразу же чувствуем, что имеем здесь дело с каким-то хотя и труднообъяснимым, но опытно самоочевидным моментом, который в предметном бытии привходит ко всем логически в понятиях фиксируемым его содержаниям и образует самое существо того, что мы зовем предметным бытием. Бытие есть не содержание как содержимое, а содержащее – или, по крайней мере, оно есть единство того и другого. Если мы, например, вдумываемся в «идеалистическое» утверждение Беркли, что реальный хлеб, который нам нужен для нашей жизни, есть «собственно» не что иное, как совокупность «идей» – все равно, наглядно ли созерцаемых или мыслимых «содержаний», – то мы сразу же чувствуем, что эта есть какая-то насмешка над истинным смыслом предметного бытия.[28] Хлеб дает нам ощущения зрительные, осязательные, вкусовые, «пищеварительные», но – вопреки Беркли – не есть эти ощущения (даже если подразумевать под последними не душевные процессы, а сами испытываемые при этом «содержания»); дающий не может совпадать с даваемым. А именно, в предметном бытии к содержаниям понятий (или «представлений» и «ощущений») привходит что-то, что мы как-то можем обозначать словами «полнота», «первичное внутреннее единство», «конкретность», «массивность», «жизненность» и т. п., – все то, что отсутствует в содержаниях понятий как таковых; и притом именно этот избыток – как бы трудно ни было его точно определить – образует существо того, что есть для нас предметное бытие; этот избыток и есть то, что «содержит» или «имеет» эти содержания, есть их «носитель».
Но так как этот избыток по самому своему существу выходит за пределы всякого «содержания понятия» – ибо есть не содержимое, а содержащее, – то он есть нечто трансрациональное, нечто, что – предваряя дальнейшее, более точное его определение – мы можем назвать непостижимым по существу.
Если мы сосредоточим наш взор на этом трудноуловимом «нечто», что в предметном бытии привходит к его логически фиксируемым «содержаниям», то мы встретимся в нем с рядом моментов, которые мы должны рассмотреть каждый в отдельности.
1. Металогичность бытия
При рассмотрении первого, самого общего из этих моментов, который мы называем «металогической природой бытия», мы можем просто сослаться на итоги исследования, произведенного нами в книге «Предмет знания». Мы вынуждены здесь дать краткое изложение этих итогов, поскольку они необходимы для нашей темы.
То, что мы называем «отвлеченным знанием» («знанием в понятиях») и в чем выражается то, что обычно подразумевается под словами «познание», «объяснение», «постижение», содержит в себе два определяющих момента, или основывается на двух моментах. Эти моменты суть: определенность и обоснованность. Определенность знания предполагает дифференцирование содержания бытия, непосредственно предстоящего нам в смутных, расплывчатых представлениях или мыслях, на прерывный, расчлененный ряд определенностей A, B, C…, из которых каждая однозначно отличается от другой и выделяется из общего состава. Обоснованность знания состоит в том, что эти расчлененные элементы – как бы части, на которые мы разняли бытие, – связываются или объединяются нами в систематическое единство, так что мы улавливаем связи между ними. Каждый из этих двух моментов мы должны рассмотреть в отдельности, причем в интересах дидактической ясности полезно начать со второго.
На первый взгляд кажется, что нет ничего легче, как «установить», «усмотреть» необходимую связь между двумя явлениями или содержаниями – все равно, какого бы рода ни была эта связь. Перед нами, напр., резиновый мячик, скажем, черного цвета. Мы видим его шарообразность и видим его черный цвет, мы осязаем его мягкость и упругость; и – одновременно мы «видим», что все это как-то связано между собой, дано совместно. Не иначе, казалось бы, дело обстоит по существу со всеми вообще «связями», если психологически мы и не всегда улавливаем их с такой же непосредственностью и простотой. Мы видим треугольник; если мы при этом и не усматриваем «сразу», что сумма его углов равна двум прямым, то все же при посредстве вспомогательных линий и направления анализирующего внимания, в лице его итогов – ряда мыслей – мы можем в конечном счете «усмотреть» и эту связь. Или мы наблюдаем постоянную, повторяющуюся связь во времени двух явлений, напр. огня и тепла, и таким путем приходим к усмотрению связи, которую мы называем «причиной»: «огонь дает тепло» или «жжет».
Однако если мы оставим в стороне чисто случайные смежности (в пространстве и во времени) двух явлений (смежности, которые в строгом смысле нельзя назвать «связями»), то при более внимательном отношении обнаруживается, что не так то легко найти основание для того, что заслуживает названия подлинной «связи», именно необходимой совместности двух явлений или содержаний – в чем бы ни заключалась эта совместность: в причинной ли связи – т. е. закономерной последовательности во времени, или закономерной единовременной смежности, или, наконец, в той необходимой связи, которую мы называем «логической». Что касается прежде всего связей реальных (логически, через анализ самих содержаний недоказуемых связей в пространстве и времени), то на всех них распространимы итоги, к которым пришел Юм в своем неопровержимом анализе причинной связи.[29] Опыт дает нам знание только единичных случаев, которые в лучшем случае могут быть лишь частыми и повторяющимися: но по самому существу дела никакой опыт не может нам дать знания о всеобщей или необходимой закономерности. «Связь» есть ведь только фигуральное выражение для того, чему в опыте соответствует лишь «соседство» или «смежность»; а необходимость или безусловное постоянство «соседства» или «смежности» никогда не могут быть даны в опыте по той простой причине, что опыт говорит лишь о том, что фактически в нем встречалось, т. е. всегда о единичном и прошлом, но никогда не может содержать в себе указания на необходимость того же в будущем – в том, что еще не было предметом. А что, с другой стороны, реальная связь не может быть обоснована логически, не вытекает из общего содержания мыслимых понятий – ясно из самой природы этой связи, именно как реальной, т. е. не «логической»: из понятия «огня» нельзя вывести, что он «жжет», из понятия «материального тела» – что оно имеет «тяжесть» и т. п.
Иное, казалось бы, имеет силу в отношении логических связей, «вытекающих», как принято думать, из содержания самих понятий: достаточно, по-видимому, вдуматься в понятие «2́2», чтобы достоверно знать, что эта величина равна 4; достаточно вдуматься в понятие «материального тела», чтобы знать, что оно «протяженно». Более внимательный анализ, однако, показывает с очевидностью, что дело и здесь обстоит не так просто, как нам кажется, и что мы и здесь наталкиваемся – в иной форме – на ту же самую трудность. Это может быть показано чисто схематически для всех видов знания. Всякое осмысленное суждение – всякое суждение, которое нас чему-то научает, из которого мы что-то узнаем, – по своему логическому смыслу всегда синтетично: это значит, что его сказуемое (предикат) содержит что-то новое по сравнению с подлежащим (субъектом). В общей схеме суждения «A есть B» B есть всегда нечто, что не содержится в A кактаковом: ибо A как таковое, т. е. содержание понятия А, есть именно только А и не есть В. Суждение «A есть B» всегда значит: «A связано с B», «к A присоединяется B». Но если это так, то из анализа или созерцания готового, замкнутого в себе А никак и никогда нельзя вывести или усмотреть его связь с В. Но даже из совместного созерцания A и B, взятых как таковых, т. е. как отдельные определенные содержания, нельзя вывести или усмотреть их необходимой связи. A есть только A, а не Б; и B есть только B, а не А; ни на одном из них, так сказать, не «написано», ни в одном из них не содержится, что оно должно быть «связано» с другим.
Итак, поскольку мы исходим из знания в понятиях – из знания, уже фиксированного в отвлеченных содержаниях A, B, C…, – никакая вообще связь между этими содержаниями не может быть «обоснована», усмотрена с необходимостью. Откуда же берется в таком случае обоснованность нашего знания, или – что то же – знание необходимых связей между содержаниями? На это может быть дан только один ответ (подробно уясненный нами в «Предмете знания»): подлинной исходной точкой знания служат не отдельные содержания A, B, C…, к которым потом присоединились бы связи между ними, а целостные комплексы или единства abc, которые, напротив, разлагаются нами на содержания A, B, C, стоящие в связи между собой. И содержания понятий, и связи между ними (или явлениями, которые в них улавливаются) суть одинаково и одновременно итог анализа некой целостной картины бытия, в которой, как таковой, все дано или мыслится сразу – т. е. в которой, как таковой, еще нет отдельно ни фиксированных содержаний, ни связей между ними, а есть лишь некое целостное сплошное единство.
Но теперь, далее: чтобы понять, что, собственно, значит это целостное сплошное единство, надо сосредоточиться на первом из упомянутых выше свойств отвлеченного знания – на его определенности, т. е. его дифференцированности и фиксируемости в ясных и отчетливых понятиях. Определенность знания – его состав как совокупности логически фиксированных содержаний A. B. С… – покоится, как известно, на так наз. логических законах или принципах «тождества», «противоречия» и «исключенного третьего». Форма отвлеченного содержания A означает: 1) что А есть именно оно само, нечто внутренне тождественное («A есть A» – принцип «тождества»), 2) что оно не есть нечто другое, что оно выделяется из всего другого («A не есть не-A» – закон «противоречия») и 3) что этим отличием от всего другого, своим выделением из него оно однозначно определено («все, что не есть не-A, есть A» – или, как это обычно формулируют «все мыслимое есть или A, или не-A, и третьего быть не может» – закон «исключенного третьего»).
В «Предмете знания» подробно показано – и мы отсылаем интересующегося читателя к этой книге (гл. VI), – что эти три логических «закона» (точнее – «принципа»), в нераздельной совместности образующие принцип определенности, не имели бы никакого смысла – что мы просто не понимали бы, о чем они говорят, – более того, что они сами были бы противоречивы и невозможны, если бы они не означали принципа анализа, разложения некого сплошного целого на ряд отдельных определенностей, иными словами: рождения совокупности определенностей A, B, C из сплошного единства бытия, которое мы, чтобы отличить его от того, что из него возникает как совокупность определенностей, символически обозначаем малыми буквами как единство abc… Но если так, то это единство – это лоно, из которого в силу принципа определенности возникает расчлененная совокупность отдельных определенностей, – само не подчинено указанным логическим принципам или законам, а возвышается над ними или, лучше сказать, лежит глубже их, составляет более первичный слой реальности. Этот слой мы называем металогическим единством. Мы видим, таким образом, что анализ определенности знания приводит нас к тем же итогам, как и анализ его обоснованности. И дифференцированность (расчлененность на понятия) знания – т. е. его предмета, – и его связанность одинаково объяснимы и проистекают из самой природы бытия как сплошного, внутренне-слитного единства – из природы бытия как металогического единства.
В бытии все связано или, точнее, сплетено или слито между собой. Оно само но себе не составлено из частей, которые мыслимы были бы до конца, во всем без остатка, что их составляет, в отдельности, одна без другой. Бытие можно скорее уподобить спутанному клубку – и притом не клубку, который можно было бы развернуть в одну простую нить, а клубку, который, будучи развернут, оказывается сложным взаимно переплетающимся узором. Начало и конец всякого частного явления или содержания принадлежат не ему самому, а лежат в другом – в конечном счете, в целом как таковом. Именно поэтому всякое частное знание есть, как мы уже указывали, частичное знание целого: чтобы отчетливо иметь перед глазами хоть малейшую часть нити, из которой сплетен узор бытия, нужно – хотя бы в известной мере – уже развернуть весь клубок бытия. Но само по себе это «развертывание» предполагает антиципирующее, предваряющее обладание тем, что потом будет нам дано в развернутом (всегда, впрочем, только «полуразвернутом») виде. Это и есть металогическое единство бытия, как мы должны как-то непосредственно его иметь до всякого его «определения» и в качестве необходимой основы всякого определения.
Чтобы наглядно иллюстрировать уясненное нами соотношение, мы можем сказать: всякое отвлеченное знание – знание, выраженное в понятиях и суждениях, – опирается на некое созерцание образов бытия, конкретной его «картины». Это в буквальном смысле имеет силу – как это понятно само собой – в отношении опытного знания: всякое опытное знание предполагает некое восприятие конкретной реальности как таковой, – восприятие, которое не только психологически, но и логически (т. е. по своему содержанию) предшествует всей совокупности суждений, в которых мы фиксируем и выражаем воспринятое. Но это в переносном смысле имеет силу и в отношении знания через мышление, напр. математического знания. И предмет математического (и всякого ему подобного) знания конкретен в том смысле, что не адекватен ни отдельному суждению, ни даже целой (всегда ограниченной) системе суждений; то, что в отвлеченном знании усматривается и выражается как (какого-либо рода) логическая связь между A и B (напр., какая-либо отдельная закономерность числовых и геометрических отношений или даже целый комплекс таких закономерностей), – этот предмет сам по себе существует и первично-непосредственно усматривается («созерцается») нами как некое единство, которое, с одной стороны, и вширь и вглубь бесконечно и неисчерпаемо и, с другой стороны, носит характер органической – т. е. до конца неразложимой – целостности. Именно поэтому мы можем проникать в него все глубже, выражать его в системе знания все более адекватно, никогда, однако, не исчерпывая его не доходя в этом направлении до последнего конца. В этом смысле и предмет мысли – а, стало быть предмет всякого знания – конкретен, – в отличие от «отвлеченности» всех наших понятий и суждений о нем. А это, как указано и значит, что бытие как таковое металогично и именно в этой своей металогичности предстоит нам и доступно нашему созерцанию. И именно это непосредственное «узрение» или созерцание металогического существа или образа бытия как такового есть первоисточник всякого предметного знания.
Отсюда проистекает основной вывод, существенный для нашей общей темы. Мы имеем не одно, а как бы два знания отвлеченное знание о предмете, выражаемое в суждениях и понятиях, – знание, как мы видели, всегда вторичного порядка – и непосредственную интуицию предмета в его металогической цельности и сплошности – первичное знание, на котором основано и из которого вытекает отвлеченное знание. Это первичное знание выражается нами в знании вторичном, отвлеченном, и в этом смысле «выразимо» в понятиях и суждениях. Но «выразимость» эта означает здесь способность «отразить», «транспонировать» его на язык понятий. Между тем, что выражается, и самим выражением – или между первичным и вторичным знанием – нет отношения логического тождества, а имеет силу лишь отношение, которое мы называем «металогическим соответствием» или «сходством» и которое, как всякое сходство, предполагает также и «различие» (само собой разумеется, не логическое различие по содержанию – таковое возможно только в случае заблуждения, т. е. ложного суждения, – а опять-таки «металогическое несходство»).
Поскольку нам уясняется до конца и совершенно конкретно изложенное выше соотношение, мы осознаем тем самым, что как раз то, что есть источник и первооснова всего нашего знания, само по себе, в своем собственном существе есть нечто несказанное и непостижимое (неизъяснимое) – и притом не вследствие слабости или ограниченности наших познавательных способностей, а по самому своему существу. Конкретный образ бытия перекладывается нами на язык понятий – примерно как мы имеем в клавираусцуге[30] схему музыкального содержания оркестрового произведения или в чертеже на плоскости схему материального трехмерного тела. Именно в этом – но и только в этом смысле – мы «отдаем себе отчет» в конкретном, созерцаемом нами (чувственно или умственно) образе бытия. Но этот «отчет» не есть, как указано, то же самое, что сама реальность, которую он передает или отражает. Наряду с этим отчетом мы «имеем» и саму эту реальность в ее собственном существе. Чтобы понять это, достаточно сравнить, напр., живое впечатление о человеке со всем, что мы можем «высказать» о нем в наших суждениях и понятиях, или конкретное восприятие художественного произведения со всем, что даже лучший и самый тонкий критик может о нем высказать. Поскольку при этом наши суждения верны – как говорится, «попадают в точку», – существует известное точное соответствие между их содержанием и самой реальностью. Но это соответствие есть, повторяем, не тождество, а лишь «металогическое сходство»: ибо вместо конкретной реальности во всей ее полноте и всем ее единстве мы имеем – в лице наших понятий – здесь лишь некоторые застывшие, частичные, никогда не связанные сполна между собой осадки этой живой реальности. «Познавать (в понятиях)», «отдавать себе отчет» в реальности и значит перед лицом созерцаемого высказывать схематические положения, находящиеся в определенном соответствии с предметом созерцания, и тем делать последний в известной мере доступным и без непосредственного созерцания. То, что мы при этом высказываем, есть все же всегда нечто иное, чем то, что мы имеем в виду и к чему относится высказываемое. Мы обыкновенно не замечаем этого различия потому, что этот «отчет в понятиях» есть обычно вообще единственная форма, в которой мы можем задним числом «выразить» реальность, хотя при внимательном наблюдении мы ясно улавливаем или чуем различие между самой реальностью – даже как она сохраняется в нашей памяти – и всем, что мы о ней «высказываем». Только художнику слова дана способность не говорить о реальности, а заставить нас в той или иной мере увидать ее самое. Наше отвлеченное знание, напротив, хотя и имеет целью как можно ближе подойти к реальности, как можно точнее ее воспроизвести, но никогда не достигает этой цели до конца – подобно тому, ‹как› никакой вписанный (или описанный) многоугольник с конечным числом углов и сторон – как бы велико ни было это число – не может совпасть с неразложимо простой фигурой круга в ее качественном своеобразии.
Итак, поскольку слово есть средство выражения мысли – познания в понятиях, – реальность сама, в ее живой конкретности, остается безусловно несказанной, неизъяснимой. Мы говорим и мыслим о ней, но не можем высказать и мыслить ее самое. Созерцательное знание, которое мы при этом имеем и которым руководимся, есть то, что Гете называл «тихим лучшим знанием» («das stille bessere Wissen»).[31] Оно есть немое, молчаливое, несказанное знание. Но это и значит, что оно есть знание непостижимого, – реальности в ее подлинной – именно металогической – природе.