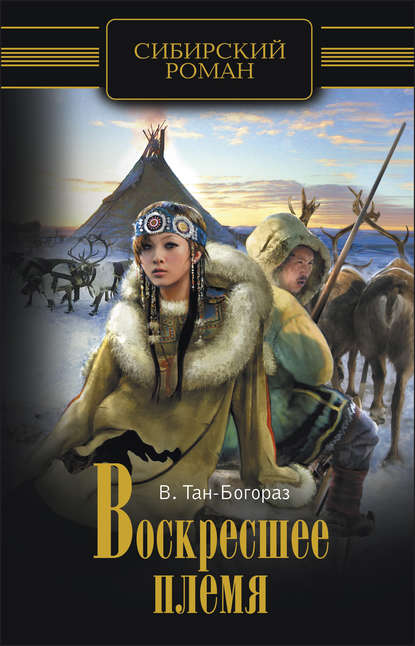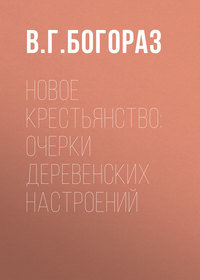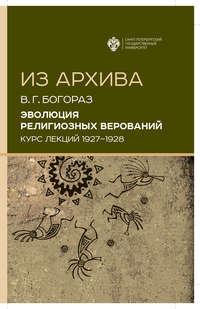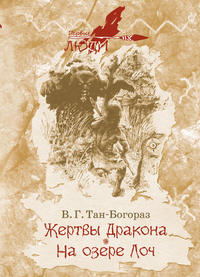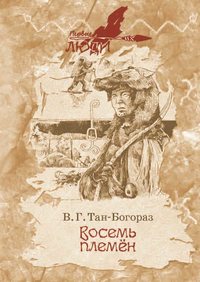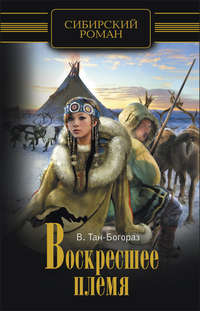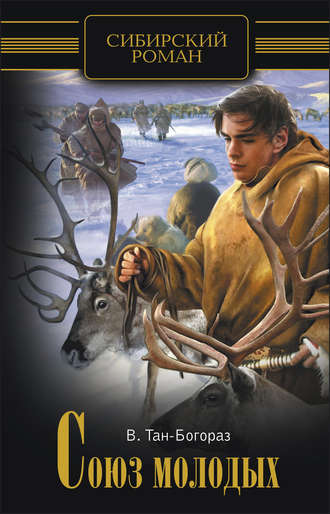
Полная версия
Союз молодых
Наконец Пака решился. Он обошел кругом обширную усадьбу Макарьева. Усадьба была огорожена тыном, но с каждой стороны были пролазы, особо для взрослых и также особо для ребятишек.
Он шел вперед, а Викеша следовал за ним на расстоянии неслышно, как горностай. Пака весьма хладнокровно пролез сквозь забор, подошел к амбару, стоявшему посредине двора, подсунул топорик под ржавый пробой: «Дрык!» – внезапным усилием он выдернул все: и скобку, и накладку, и висячий замок. На Колыме запирались некрепко. Воровать же вообще не воровали.
Правда, исправник и помощник воровали, но они это делали иначе, помимо пробоев и замков.
Сломав замок, Пака раскрыл дверь и вошел внутрь.
– Как в свой амбар вошел! – сказал себе Викеша с восхищением и завистью.
Через минуту Пака уже выходил из амбара обратно. Мешок на плечах его раздулся, потолстел и стал не меньше самого Паки. Из устья торчали два широченных рыбьих хвоста. Святая рыбка победила чужеземную далекую муку. Мука, кроме того, была затхлая, а рыба свежая, мороженая, та самая рыба-строганина, которая составляет лучшее блюдо северного сыроядно-натурального стола. Едят строганину сырьем, нарезав широкими тонкими стружками без соли и без перца.
– Рыба… Чиры!
Двуногий горностай в свою очередь скользнул в амбар, по примеру грабителя, и отколе ни возьмись туда же посыпались снаружи такие же небольшие, проворные, поджарые фигурки. Викеша даже свистнул от удивления. Тут был Андрейка и другой мальчик Тимка, и девочки Хачирка, и Сельдятка, и Шурка Стрела, и Федосья Готовая, и даже пятилетняя ковыляющая Аленка Гусенок. Они нырнули в амбар, как мыши, и тотчас же выскочили вон, прижимая к груди как будто по серебряной лопате.
– А ты что, Аленка? – прошипела с удивлением Сельдятка.
Аленка удовлетворила свою страсть к крупным нельмам и тащила уже не лопату, а целую доску. Но нельма уперлась головой в порог и отказалась выходить. Аленка зашипела и фыркнула, совсем как горностай, и так поддернула упорную добычу, что вместе с ней перелетела через порог и кувыркнулась в снег.
Дети убежали, как волчата, с захваченным куском прямо в лесную чащу, укрывающую одинаково и жертву, и хищника, но Пака прошел переулком, как прежде, и пошел по дороге. Его мешок был слишком тяжел, чтоб тащить его в лес. К тому же его гагарлята ждали не в лесу, а в избушке на Голодном Конце.
Ему приходилось проходить мимо макарьевской усадьбы с другой, лицевой, стороны. Но, дойдя до ворот, он остановился, как будто поперхнулся. В воротах стоял сам старый Архип Макарьев, смотрел на солнце и скреб горстью широкую сивую бороду.
Макарьев был человек неторопливый, насмешливый и хладнокровный. Также и на этот раз, видя такое необычайное явление, как старого Паку с огромным мороженым уловом, спокойствия ничуть не потерял.
– С промыслом! – приветствовал он Паку.
Пака промычал что-то непонятное.
– Где Бог дал?
Наполненный рыбой мешок опасно закачался у Паки на плече, но Пака удержал его и двинулся вперед, собираясь пройти мимо.
– Моя рыба! – сказал Макарьев решительно. Он узнал своих мороженых чиров по виду и по масти, как другие узнают лошадей.
Пака неожиданно рассвирепел.
– Твоя, так бери! – пискнул он голосом, пронзительным, как дудка. – Бери!..
Он шваркнул об землю свою трехпудовую ношу и облегченно выпрямил свою хилую спину. Мерзлые чиры поплыли из мешка по скользкому снегу в разные стороны.
– На, на!
Пака нагибался, хватал чиров и бросал их в Макарьева. Один чир, брошенный особенно яростно, ударил Макарьева плашмя в грудь и прошелся широким хвостом по его окладистой широкой бороде. Даже по носу щелкнул концом плавника. Колымчане вообще рыбою драться мастера, и на летних промыслах порою раздают друг другу здоровых лещей, правда, не лещами, а чирами и пузатыми нельмами. Но Пака затеял драться мороженой рыбой, твердой, как нарубленные доски.
Выбежали собаки и стали, урча к хрипя, растаскивать лакомый груз.
– Поцам, проклятые! Прочь! Поцам!
Макарьев споткнулся и брякнулся грудью на свое погибающее добро. Пака с сердцем дернул свою реднину, такую же тощую, как прежде, и поплелся домой к своим голодным гагарлятам.
Макарьев осмотрел свой замок и даже испугался, несмотря на свое хладнокровие. Сколько ни стояла Колыма, не бывало такого, чтобы бедные ломали замки у богатых и уносили пищу прямо среди белого дня.
Правда, экономика колымская была какая-то игрушечная, вроде игры в бирюльки. Все продавалось, начиная от труда и кончая девичьей честью. Продавалось задешево уже потому, что не особенно ценилось даже основными владельцами. Платили не деньгами, а едой или товаром. Деньги вообще ходу не имели. Колымчане считали, как дикие чукчи, на чай и табак, например, нанимались в батраки – три кирпича чаю в месяц, папуша табаку, ситцу на рубаху, дрели на порты, сары, полусарки[16] и так далее, во всю бесконечную длину потребительского списка.
Более дешевые вещи считали на рыбьи хвосты.
Парни распевали довольно известную песню:
Вот Чичирку за хачирку,А Аленку за чилим.Песня эта требует пояснения. Чичирка – женское имя. Хачирка – мелкая сушеная рыба. Чилим, силим – жвачка табаку. Таким образом, характер вышеуказанной торговой операции становится ясен.
«Малые люди», разумеется, были в долгу у «больших», но они не относились к этому очень серьезно. Поймает, например, тот же Пака в капкан неожиданно, почти против воли, хорошую лисицу-огневку, он не несет ее к своему постоянному «хозяину», точнее кредитору, Явловскому, а норовит продать ее из-под полы другому и непременно за наличный расчет.
Каждый из малых людей был в долгу, как в шелку, и его положение было такое: отдашь по закону, засчитают за долг и больше ничего не дадут. Сделки, таким образом, помимо всяких долгов, производились за наличный расчет. Это было, в сущности, начало естественной отмены долгов.
На другой день к обеду исправничий «драбант» Дормедонт привел Паку на суд пред грозные очи его высокородия. Пака не сробел, пошел. Даже вскинул на плечо ту же добавочную двойную реднину – мешок.
– Ты, что ли, сломал амбар у Макарьева? – грозно спросил исправник.
– Не запираюсь, я! – спокойно ответил Гагара.
– Да как же ты смел! – вскипел исправник. – Да я тебя в холодную посажу!
– Посадишь?.. – Лицо Паки сморщилось, как у собаки, готовой укусить. – Посадишь, да?.. А гагарленков моих кто будет кормить? Пятеро их у меня. Вот приведу и оставлю в твоей канцелярии, кормите их, да, вы, начальники!.. – Пака перешел в наступление. – Отольются вам наши слезы! – визжал он своим колющим, как дудка, голосом. – Голодные сидим. Не унес я ничего у твоего мордастого Макарьева. На, смотри, и мешок пустой! – Он дернул реднину и чуть не задел исправника по лицу. – Но вы погодите, мы вам покажем! – Пака повернулся и вышел из двери, волоча за собою свой пустой мешок.
Так и не посадил исправник Паку в холодную. На это было несколько причин. Первая причина: в Колымске не было холодной. Согрешивших казаков и мещан сажали в караулку, к старику Луковцеву, постоянно сторожившему казенный магазин. Алеха Выпивоха, казачок, представлял охрану временную и вовсе бездомовную.
Луковцев был тоже из «малых людей», к тому же он вел дружбу с Павлом Гагарой. Посадить Паку в караулку было не лучше, чем послать его домой. И власть предержащая предпочла отпустить его просто и без затей. Кроме того, арестованным надо было платить кормовые по 98 коп. на человека в день. Таким образом, Пака на двухмесячной высидке мог обойтись казне рублей в шестьдесят. Меньше двух месяцев назначить было невозможно. В расчеты исправника совсем не входило выдавать правонарушителям на реке Колыме хорошие казенные премии.
Так совершилась на реке Колыме первая экспроприация.
V1914 год выдавался обилием промысла. Рыба, пушнина, олени на тундре и лоси в лесу – всего было вдоволь. Даже ламуты заплатили торговцам свои невероятные долги белками, песцами и горностаями. Природа словно хотела побаловать людей в последний раз перед нависшей грозой. Но о грозе никто не думал. Среди всеобщего обилия Голодный Конец на время перестал соответствовать своему прозвищу. Гагарленки старого Паки набивали отборною рыбою свои ненасытные зобы, и Щербатая выть жевала и мяла еду своими щербатыми ртами.
Ребятишки отбились от дому. Летом в каждом ручье есть еда и можно промышлять рыбу хоть штанами, как в юкагирской сказке. Викеша Казачонок больше не клевал краснощекую Аленку своим вороньим носом, и оба они карабкались рядом на склоны рыжих скал, выбирая из-под папороти крепкую и твердую бруснику, как красненькие бусы. И так настала осень с тихими ночными морозами, с первой, особенно сладкой мороженой рыбой – строганиной.
В октябрьский вечерок Андрейка и Викеша уже пробовали лепить молодые снежки из густо нападавшей пороши. Мало им было дня, так они прихватили и вечер. Как вдруг проступал по звонкой земле скачущий конь своими подкованными копытами. На всей Колыме три подковы, и те завезены с юга и прибиты для счастья над воротами у трех казаков.
Конь проскакал и запнулся у калитки.Нарочный… Гонец из Якутска.В 1881 году по сонным улицам Колымска впервые проскакал такой сверхъестественный гонец с воплем и воем: «Убили царя, убили Лександру второго!» И жители заперлись в страхе. Убили царя – все равно что убили Бога.
Вот тогда сразу решили поречане: «Безбожная южная Русь, ежели не побоялась, убила царюющего бога».
В 1894 году другой гонец привез на гриве лошади новую весть: «Царь помер, тоже Лександра, по счету третий».
Но тут колымчане уже осмелели, и чей-то голос из темноты крикнул с простодушным любопытством: «Сам, али тоже убили?»
И гонец объяснил, во избежание недоразумений: «Сам подох».
На Колыме, как сказано, вещи называются естественными именами.
А еще через десятку, в 1904 году, гонец принес на уздечке коня хлесткое слово «война». Теперь на четвертую десятку новый гонец принес новую войну. Две царских смерти и две войны – вот был итог новостей, приходивших с далекого юга за сорок лет в заброшенную Колыму.
Война Колымы не касалась. Там не было рекрутчины ни раньше, ни теперь. Туда забегали порою беглые солдаты, дезертиры-новобранцы, да там и оставались, укрытые тяжелым бездорожьем от воинской комиссии, – даже семьи разводили и пускали новый корень. От них на Колыме и Индигирке пошли такие имена, как Солдатовы, Забегловы.
Но все же наутро весь город говорил о неслыханной войне. С целым светом задралась мудреная южная Русь. С нами четыре державы, а то пять, а то шесть. А с «ними», с «теми» – три, а то четыре. И хотя 4–6 больше, чем 3–4, но колымские политики, вспоминая недавнюю русскую встречу с азиатским японцем, решили беспристрастно: «Отдуют опять».
По-прежнему жила Колыма. Собачники ездили на тундру к чукчам за оленями, и на зимних посиделках парни бросались с размаху к девицам на колени, чтоб крепче притиснуть к скамье, и смачно целовались с ними, и «корогод» (хоровод) выпевал посредине избы:
Кинуся, бросюся,Кинуся, бросюся.Маме Маше на ручки,Маме Маше на ручки,Я на Маше посижу, я на Машу погляжу,Поцелую, обойму, надеждушкой назову.По-прежнему пришел конский караван из Якутска, навьюченный чаем, мукой и сахаром и разными припасами и даже, к удивлению, спиртом, в плоских, трехведерных бочонках, несмотря на строжайший запрет. Правда, спирт продавался впятеро дороже, чем прежде. Но не все ли равно. В сей год Колыма была богата. Ей было чем платить. Ничего не изменилось.
Но мало-помалу, из обрывков газет, из темных неясных и ползучих слухов сложилось суждение: светопреставление на юге. Всякие народы, и «наши», и «не-наши», ум потеряли и режутся, грызутся хуже волков и медведей.
Однажды солдат, искалеченный, безрукий и навеки перепуганный, забежал в Колыму, прямо с далекой польской Равы, за десять тысяч верст.
Левая культяпка служила ему вместо отпускного билета. Но он чувствовал себя дезертиром, беглецом и порою просыпался по ночам с криком: «Идут, зовут!» Свое настоящее имя он тщательно скрывал, и называли его поречане Егорша Безрукий.
Был он иркутянин, сибиряк, хотя из семьи новоселов. На Раву попал сейчас же из телячьего вагона с надписью: «Сорок человек, восемь лошадей», – угодил под пулемет, под завесу огня, под буханье тяжеловесных прусских «берт» и видел в сущности один короткий бой, но все же каким-то чутьем он знал самое безумное и страшное о битвах и потерях, и осадах. И он рассказывал чуть слышным голосом, зажмурив глаза, как прячутся люди месяцами в земляных окопах, а потом бросаются вперед и рвут свое тело о колючую проволоку и колют друг друга штыками, а сверху железные птицы, с пулеметами на спине, поливают их бомбами, а птиц этих снизу стреляют и бьют на лету.
И простодушные колымские люди ахали и ужасались: безбожная, немилостивая Русь, хуже диких зверей, злее убийственных чукчей!
– А за что они бьются? – спрашивали бабы.
И солдат объяснил, как умел, по-своему:
– Не хватает им земли.
Егор, сибиряк-новосел, еще понимал про российскую нужду в земле.
– Столько народу развелось на Руси, что негде пахать, а кое-которую землю получше разобрали купцы да начальники. Опять же и у них, у «не наших», скажем, у германцев, тесная земля, куренка негде выгнать. Вот и отнимаются и режутся все вообще.
– А чего это – куренок?
– Птица!..
И еще большое дивовались простодушные поречанки:
– Зачем же выгонять куренка, когда можно убить его и съесть.
Мало земли!.. А в Колымском обширье о поселок от поселка стоит на тридцать верст, и в поселке два дома и только, и столько земли, что хватило бы сразу на всех, и наших, и не наших. И каждый человек на счету. Человек – это богатство.
– Дети – богатство наше! – говорит Колыма.
Ребятишки ходили за Безруким табунами. Викеша, и Егорша, и Андрей, и Савка Якутенок, из старого шаманского рода. Имя его было Прокофий, но его называли не Пронька, а Савка, по деду-шаману. И Пака Гагарленок, – тоже Пака, по отцу, – острый, суматошливый, кудлатый, похожий на сорокопута. И еще двое братьев. Имя обоим было Микша[17], одного называли Берестяный, другого Крутобокий. Берестяный был крепкий, веселый и гладкий, как белая береста, а Микша Крутобокий был кожаный, жесткий, похожий на чукотского бога, каких выставляют на праздничных санках и мажут им губы салом. У Микши Крутобокого, кстати же, была и привычка постоянно облизывать губы языком, как будто он слизывал чукотское жертвенное сало.
И девчонки, Хачирка, и Сельдятка, и Машура Широкая, и Фенька Готовая, и Аленка Гусенок, и Лика Стрела. Все они подросли за последние годы. Коноводу всей партии, Викеше, уже миновало двенадцать. Они держались в стороне от больших и от очень маленьких, устраивали особые игры, например, начали играть в войнишку.
Они делились для этого на две партии: «наших» и «не наших». Дальше этого в своих обобщениях они не пошли. Вообще же в распределении побед и поражений они были вполне беспристрастны. Например, «не наши» частенько нападали на «наших» и давали им здоровую трепку.
Японская война на севере не выразилась играми. Но эта вторая война, таинственная и ужасная, задела фантазию даже у колымских подростков. А тут был живой источник, из которого можно было почерпнуть заманчивые знания об этих беспричинных, жестоких и вполне непонятных делах.
Они смотрели Егору в рот и задавали вопросы без счета: «Чем дерутся и зачем дерутся? И куда они девают убитых и что они едят на войне?» Последние вопросы задавали девчонки. Возможно, что они подозревали жестокую Русь в смешении войны с охотой, то есть в людоедстве.
VIОднажды на обрыве над речкой Егор стал рассказывать. В сущности, это не был рассказ, а отрывочный ряд воспоминаний, и то, пожалуй, не личных, а общих солдатских, навеянных Егору массовым ощущением войны.
– Крыли нас немцы, почем зря. Нос высунешь – нос отстрелят. А голову – так голову. Зарылись мы в землю, как змеи. Лежим, шипим. Яд наш при нас. И вдруг подходит ко мне юнкирь.
– Вставай, сукин сын! – А мне встать неохота. Так он меня кнутом. – Ух ты! – А мне встать неохота. Так он винтовку схватил, да штыком меня, штыком. – Вставайте! Всех переколем!.. – Тут мы встали, пошли. А немец и почал поливать. У него пулемет-отгонялка. Что жиганет, то полоса. Сунулись назад, а у наших пулемет-погонялка. Все та же смерть. От своих еще обиднее.
Хачирка всплеснула руками:
– От чужих, от своих!.. Народы, народы немилосливые.
– Некуда нам деться, побегай. Добегай до окопов, а там проволока в три ряда повешена, как сеть. Мы давай рубить да резать. Кто и застрянет на проволоке, как жук. Тут, там, везде вопят да бьются. Которые прорвались, тех немцы покололи. Тут мы назад повернули вполне.
– Как гуси в сетях, – промолвила Фенька Готовая.
Люди, повисшие на проволочной сетке, напомнили ей птичьи охоты. Колымские охотники жердями и камнями загоняют в губительные сети тысячи линялых гусей, а потом бьют их палками, или душат руками, или еще проще – перегрызают им горло зубами.
– А кто это юнкирь с кнутом, – спросил неожиданно Викеша, – русский?
– А то кто, чужой? – жестко ответил Егор. – Русский, конечно. Русский что лошадь – без кнута не возит.
– Не путай, сибиряк, – сердито отозвался Викеша. – Русский бьет, и русский возит?.. Врешь ты! Русский, конечно, стегает челдонов.
Они успели узнать про Егора, что он «сибиряк-дурак», из тех самых сибирских челдонов, которых некогда завоевал Ермак.
Новоселы упрекают староселов, сибирских челдонов, что это их собственных предков завоевал Ермак, а совсем не одних полевых кругоходов татар.
– У, какой вострый, – сказал хладнокровно Егор. – А ты сам кто, русский?
– Русский! – сказала за Викешу Аленка с известной гордостью. – Политика русская. Его отец на царя бонбами бросался.
– Важное кушанье, – сказал презрительно Егор. – Мы на войне сами бонбами бросаем… А российским попадает поболее сибирских. Сибирского достанешь либо нет!.. Всех больше на свете битые русские.
– Кто с кнутом? – настойчиво спрашивал Викеша.
– Известно, начальство, офицер!..
– А какое ему имя? – негромко спросил Викеша. Ему почему-то представилось, что Егор ему скажет: Авилов.
– Какой имена!.. Мы разве спрашиваем? Он тебе имя свое пропечатает на морде…
– А я бы его бонбой, – сказала Аленка Гусенок своим сладким, слегка шепелявым голоском.
– Кого? – спросили ребята, заинтересованные.
– Того, который бьеть – сказала Аленка спокойно и упрямо.
Безрукий пожал плечами.
– А может, и мы?! – сказал он загадочно.
Викеша молчал, в душе его двоилось. Русь бьет, Русь бьют… Бывают различные Руси.
– Я бы убежала, не пошла, – воскликнула Хачирка.
– Быват, убегают которые в леса, – согласился Егор.
О, в леса – это было знакомое.
– Есть нечего в лесах, – объяснил Егор, – на волчьем положении.
Дети молчали, словно взвешивали, которое положение лучше, человечье или волчье.
– Трудно идти на войну, – сказал Егор. – Когда уезжали на машине, жонки с ребятами ложились под машину: задави нас, машина, до смерти, чем с милым разлучаться!..
И это было знакомое. Горечью внезапной разлуки была напоена кочевая колымская жизнь. Хачирка даже пропела тихонько:
Прощай, радость, жисть, веселье,Слышу, едешь от меня.Нам должно с тобой расстаться,Тебя мне больше не видать.А потом помолчала и вздохнула:
– Какая ваша русская жисть…
– Такая, – ответил Егор… Он долго молчал и вдруг затянул тоненьким, чуть слышным голоском:
Из-за речки, за быстрой,Становой едет пристав.Ой, горюшко, горе, горе,Становой едет пристав.– Чего это ты поешь? – спросили дети.
– А это русская песня. Вот там, где война была, там и поют. А вы не молчите, подпевайте.
За ним письмоводитель,Сущий вор-грабитель.И дети подхватили с привычной певучей ухваткой:
Ой, горюшко, горе, горе,Сущий вор-грабитель.Самая несчастная, злая российская жизнь!..
VIIЯкутскую торговлю словно отрезало ножом. Не стало ни привозу, ни отвозу. Словно Якутск переехал на луну или прямо на тот свет.
Худосочный Колымск неожиданно стал задыхаться от обилия ненужной пушнины, готовой одежды, даже драгоценной белой юколы, которую зимою возили в Якутск по морозу. Никакой осетровый балык не может сравниться с юколою из колымского чира. Но теперь приходилось колымчанам самим потреблять свои рыбные лакомства.
Главная беда – не стало чаю, табаку, сахару, ситцу, железа, не стало ничего.
Что было у купцов, они припрятали в подполья или прямо закопали в подземных тайниках, чтоб люди не нашли и не отняли.
С удивлением и гневом Колымск, раньше полунезависимый от южной Руси, которому главное – была бы святая рыбка, наглядно ощутил, какая крепкая пуповина соединяет его с культурой. Но теперь в этой пуповине кровь перестала пульсировать.
Без русского прядева и нити не было сетей и нечем было даже ловить святую рыбку. Приходилось плести кое-как ивовые верши. Без пороху и дроби приходилось приниматься за дедовский лук.
Но от сознания этой тесной связи с югом еще более негодовал Колымск.
– Не пропущают, ничего не пропущают. Чаю ни маковой росинки, сахару ни зернышка. Злая Русь!
Раньше в Колымске говорили: «Мудреная Русь» и этим отдавали дань почтения всем выдумкам культуры, старой и новой, от церковной восковой свечи до граммофонной пластинки. Ведь был и в Колымске граммофон.
Но теперь колымчане были готовы пуститься походом на Русь и силой отнять задержанные богатства.
Вестей и гонцов из Якутска тоже не бывало. Доходили, неизвестно откуда и как, тяжелые, мутные слухи: режутся, воюют.
Тут где-то воюют, под боком, в самой Якутской губернии.
– Вот так на! – судили колымчане. – Апонцы или кто иные пришли. Столько народов воюют. Мог какой-нибудь добраться и до Ленского угла.
Другие слухи, более неопределенные, но вместе и более понятные, разъяснили:
– Никто не пришел. Сами воюются, режутся, режут друг дружку.
Собственно о революции, о революционном правительстве в Колымске не слыхали. Однако как раз через год, в июле 1918 года, в Колымске, вообще привыкшем ничему не удивляться, случилось новое чудо.
Съехал исправник из полицейского дома, так неслышно и скромно съехал, словно рассчитанный приказчик. Конечно, никто его не рассчитывал. Он сам рассчитался, рассчитал, что пора уходить, и съехал на квартиру к своей «экономке» Палаге. «Экономка» – по-колымски любовница. Очевидно, подход экономический. С собою исправник не взял ничего, ни казенных бумаг, ни вещей. Из собственных вещей взял самое необходимое, носильное платье и две колоды новых, неразодранных карт. Даже мундиры свои и шапку с кокардой, орленые пуговицы и шашку с портупеей оставил на квартире при полиции, как достояние казны.
У Палаги был собственный невод, справленный, конечно, на исправничьи деньги. На другой день после своего отречения от власти, колымский Цинциннат[18], вместе с Палагой и ее косоглазым братом, сели в неводный карбас и выехали за сто верст на рыбную заимку.
На колымчан это дезертирство исправника произвело впечатление гнетущее. Главное, вслед за исправником сбежал и помощник, и дежурные казаки, и писцы – и тоже бросили бумаги и пуговицы. Полиция осталась как будто чумовая, запустелая.
Последним оставался престарелый Олесов Никола. Ему было семьдесят лет. По имени он звался совсем не Николай, а именно Никола, по святому Николе Мокрому, и имел серебряный крестик за выслугу лет. Он просидел три дня совершенно один, но оторопь взяла и его. И он ушел.
Дошло до того, что даже те грозные двери, куда колымчане ходили на поклон и носили посулы, стали заплетаться паутиной.
Городу, однако, нельзя было оставаться без власти. Была казенная пушнина, хлебный и соляной магазины, боевые припасы, да мало ли что.
«Как бы не ответить за это», – подумал Колымск.
И как-то само собой составилось новое колымское правительство, деловое и нейтральное.
Оно составилось тоже из чиновников, но преимущественно из опальных, отставных, отстраненных от власти – за что? Разумеется, за взятки, воровство и так далее. Они состояли многие годы под судом. Но как только ушло настоящее начальство, эти подсудимые его заместили по праву.
Они себя назвали: «Народное правительство» – почему же народное? Очевидно, неопределенный дух демократизма, даже при отсутствии вестей, как-то сообщился с юга на Колыму.
Возглавляли это правительство два отставных подсудимых. Трепандин, бывший заседатель, отданный некогда под суд, но отказавшийся ехать в Якутск на разбирательство. Судили его заочно, приговорили к лишению прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Но так как достать его из Колымска не удалось, то ему и назначили ссылку в этом самом Колымске. Колымск, без сомнения, и был отдаленнейшим местом Восточной Сибири.