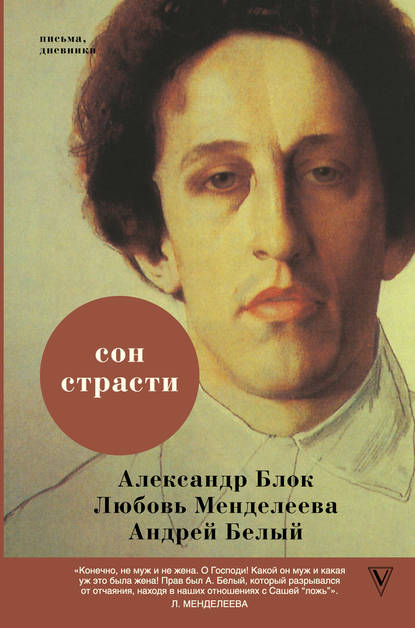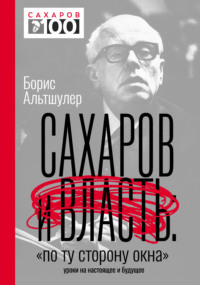Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна
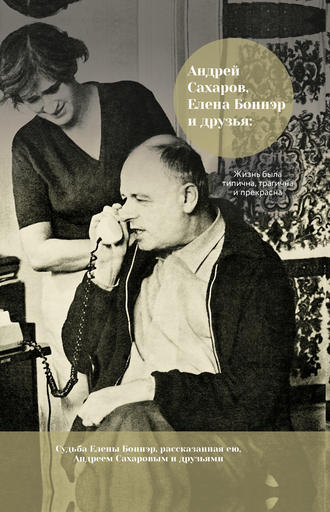
Полная версия
Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна
Жанр: биографии и мемуарыдокументальная литературадиссидентыавтобиографиисоветская эпохазнаменитые женщинывоспоминаниясерьезное чтениеоб истории серьезно
Язык: Русский
Год издания: 2020
Добавлена:
Серия «Люди, эпоха, судьба…»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу