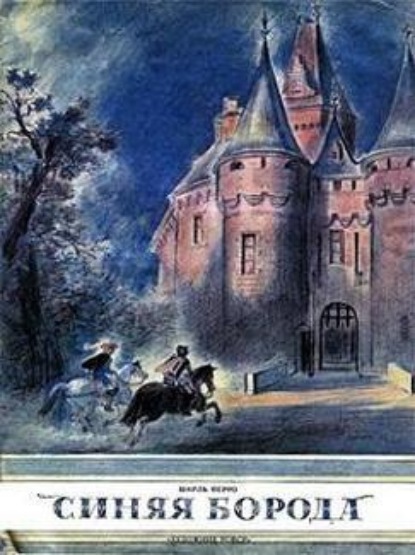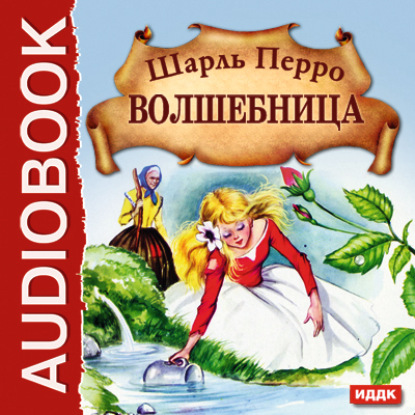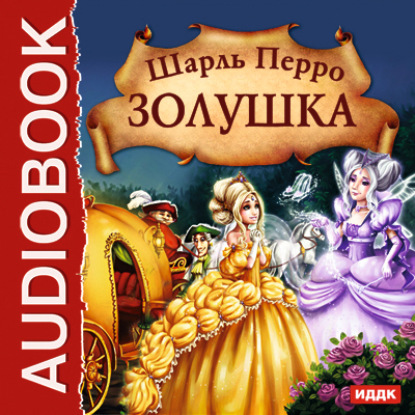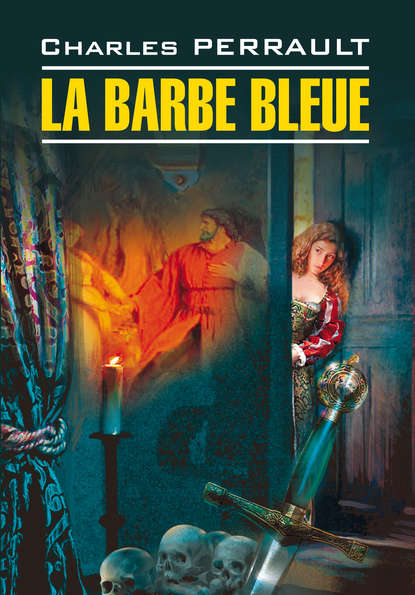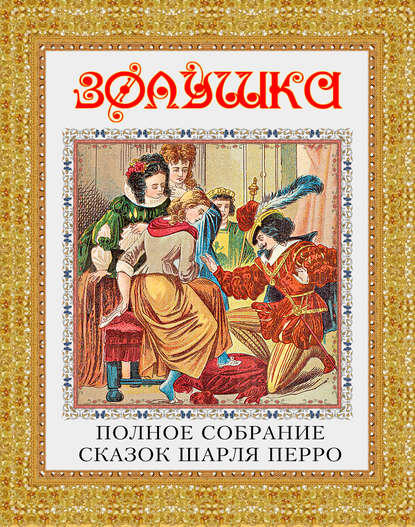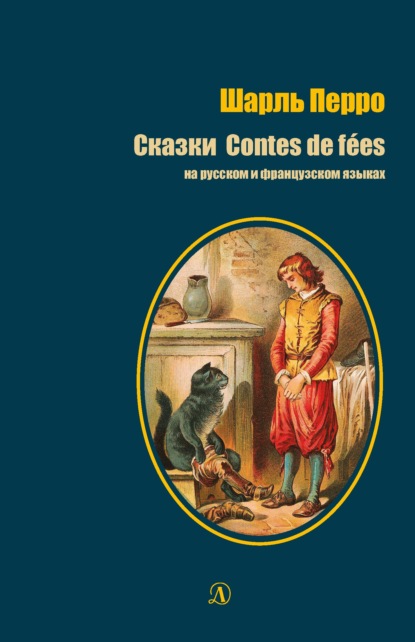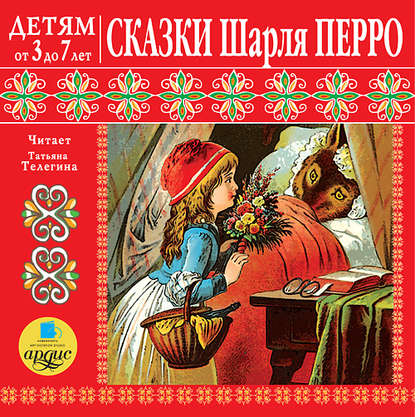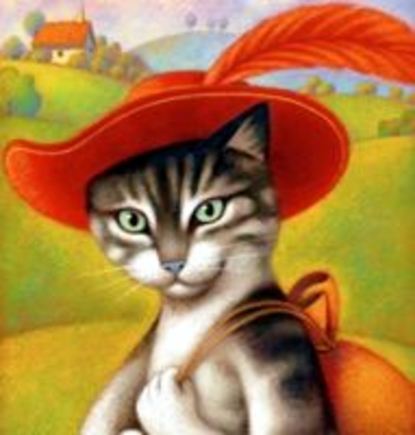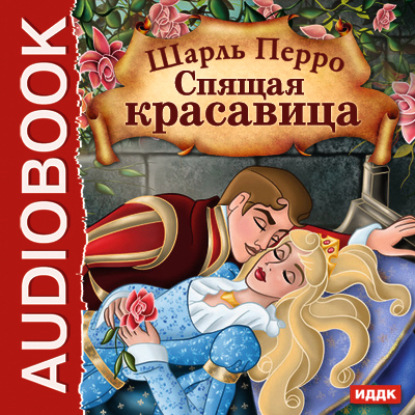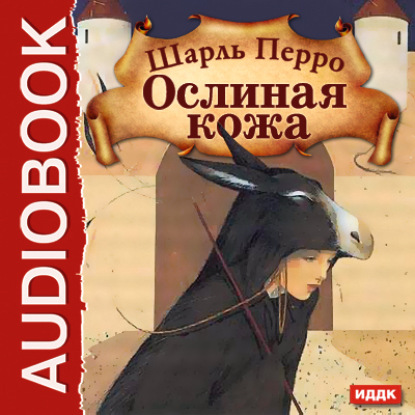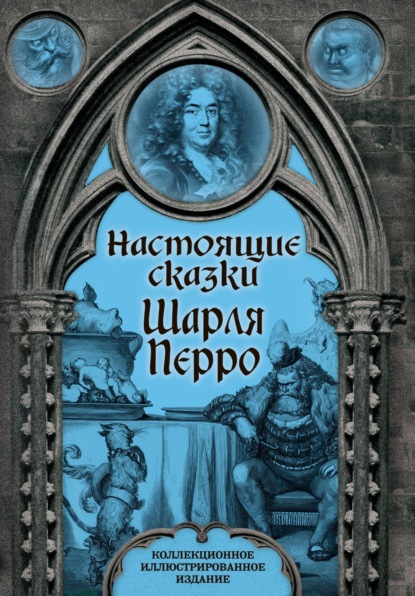
Полная версия
Настоящие сказки Шарля Перро

Шарль Перро
Настоящие сказки Шарля Перро. Коллекционное иллюстрированное издание
Из этой присказки становится ясней:Опасно детям слушать злых людей,Особенно ж девицамИ стройным, и прекраснолицым.Совсем не диво и не чудоПопасть волкам на третье блюдо.«Красная Шапочка». Шарль Перро«Я утверждаю даже, что мои рассказы больше заслуживают рассказывания, чем большая часть античных сказок, в особенности такие, как «Матрона эфесская» и «Психея», если рассматривать их в отношении морали, что во всех видах рассказов важнее всего и ради чего они и должны бы создаваться».
Ш. Перро. Предисловие к первому сборнику своих стихотворных сказок (1695)«Сказки имеют целью показать, каковы преимущества честности, терпения, предусмотрительности, усердия и послушания и какие беды постигают тех, которые уклоняются от этих добродетелей».
Ш. Перро. Предисловие к первому сборнику своих стихотворных сказок (1695)«Милетские рассказы [сказки] так ребячливы, что слишком много чести противопоставлять их нашим сказкам матушки Гусыни или об Ослиной Коже».
Шарль Перро. «Сравнение древних и новых в вопросах искусств и наук»(т. 2, 1691)Шарль Перро был четвёртым после Г. Х. Андерсена, Д. Лондона и братьев Гримм по издаваемости в СССР зарубежным писателем за 1917–1987 годы: общий тираж его 300 изданий составил 60,798 млн экземпляров.
Книгоиздание СССР. Цифры и факты. 1917—1987
© ООО «Агентство Алгоритм», оформление, издание, 2023
Сказки Перро
IВ 1696 году в журнале «Mercure Galant» (Галантный Меркурий) была напечатана без подписи автора прозаическая сказка «Спящая красавица» («La belle au bois dormant»).
В следующем году эта сказка с рядом других была включена в состав сборника «Histoires, ou Contes du Temps Passé (Contes de ma Mère l’Oye) avec des moralités». [Истории, или Сказки былых времён Сказки моей матушки Гусыни) с моральными поучениями].
Сборник этот вышел одновременно двумя изданиями – в Париже и в Голландии (в Гааге), причём в парижском издании автором сборника назван Пьер Дарманкур – сын известного тогда писателя Шарля Перро.
Впоследствии была установлена принадлежность сказок самому Перро. Вопрос об авторстве Перро разрешался различно. Сам Перро никогда не признавал себя автором этих сказок, и при жизни его в печати ни разу имя его как автора сказок в прозе не называлось. Только в издании 1724 года сказки приписаны Перро, и в течение очень долгого времени считалось, что именно Перро является их автором; в частности, неоднократно указывалось на то, что сыну Перро в период выхода в свет сказок было всего 8–9 лет, и потому совершенно невозможно говорить о нём как об авторе (хотя фактически же Дарманкуру было на 10 лет больше, и в этом плане авторство его возможно). Некоторые критики полагали, что Перро только прикрылся именем своего сына, чтобы защитить себя от упреков: ему, в то время академику, неприлично было заниматься таким «низким» творчеством, как создание сказок в прозе. Другие проводили ту мысль, что Перро явился лишь редактором сказок, написанных его сыном. Однако все предположения об авторстве Дарманкура опровергались целым рядом доводов, позволяющих считать автором сказок именно Перро, а не его сына.
Успех сказок Перро был чрезвычайным: появились повторные издания и переводы на иностранные языки, явились продолжатели и подражатели Перро во французской литературе (да и не только во французской), сказки стали модным чтением и проникли в аристократические салопы.
В чём причины этого успеха? Необходимо учесть, с одной стороны, состояние французской литературы в конце XVII века, с другой – характер самых сказок Перро сравнительно со сказочным материалом, вводившимся в литературу раньше.
Французская литература того времени переживала период классицизма. Ещё в XVI веке деятели так называемой «Плеяды» боролись за «классическую» поэзию, B XVII же веке классицизм торжествует свою победу в деятельности Буало, Корнеля, Расина.
В теории и в литературной практике устанавливается господство академизма, господство «древних». Литература приобретает торжественный, напыщенный, придворный характер.
Но, конечно, ни жизнь, ни литература не были совершенно однотонными. Рядом с господствовавшим классом дворянства поднималась уже довольно могущественная буржуазия, собиравшая силы для грядущей революции. Это проявилось и в классической литературе, например, в творчестве Лафонтена и особенно Мольера, у которых сквозь условные классические формы пробиваются ростки реалистического изображения действительности.
Своеобразным отражением этих тенденций явилась так называемая «борьба (или спор) древних и новых».
Главой партии «новых» в этой борьбе был Перро.
Сущность спора сводилась к вопросу, должна ли новая литература подчиняться авторитету древних и пользоваться материалом античности, или ода может брать материал из других источников. Перро выступает горячим сторонником той мысли, что жизнь идёт вперёд и что вперёд должна идти и литература; он настаивает на существовании прогресса и доказывает преимущества современности над древностью.
Во втором томе своего четырехтомного труда «Параллель между древними и новыми»[1] Перро заявляет в частности:. „Милетские рассказы [сказки] так ребячливы, что слишком много чести противопоставлять их нашим сказкам матушки Гусыни или об Ослиной Коже». Именно в этом плане противопоставления свежего материала старой античности и даются сказки Перро. Перро использует фольклорный – материал, придавая ему значение «нового» и современного сравнительно с античной мифологией. Он берёт сказки, «простонародные» рассказы, не допускавшиеся в «высокую» литературу, и этим «простонародным» рассказам открывает доступ и в аристократические салоны.
IIСам по себе сказочный материал не являлся чем-то абсолютно новым ни для европейской литературы вообще, ни, в частности, для литературы французской.
Задолго до Перро средневековая литература, светская и церковная, использовала сказочный (в широком смысле этого слова) материал довольно широко.
Около 1100 года крещёный испанский еврей Петрус Альфонси составил целый сборник «Disciplina clericalis» (Учительная книги клирика), в который вошло 34 рассказа, в том числе ряд «животных сказок» и анекдотов. В XIII веке большой сборник рассказов разнообразного характера: легенды, нравоучительные рассказы, анекдоты и пр. – всего 420 номеров – составил епископ Жак де Витри, предназначавший эти рассказы для использования в церковных проповедях. В подобных сборниках обычно лишь передаётся кратко и схематически основное развитие действия, своего рода сюжетная схема, наполнение и оформление которой предоставляется самому проповеднику.
В других случаях рассказы приводятся полнее и точнее, причём церковники-составители придают этим рассказам моралистическое толкование. Наиболее знаменитым средневековым сборником рассказов являются «Gesta Romanorum» (Римские деяния); сборник этот возник в начале XIV века и впоследствии многократно переписывался, перепечатывался и переводился на разные языки (в том числе есть белорусский перевод XVII века).
Широкой волной сказочно-повествовательный материал влился в область романов, поэм и новелл.
Таковы романы так называемого бретонского цикла (волшебно-рыцарского характера), некоторые из эпических поэм (chansons de geste), в особенности же так называемые «Lais» (небольшие стихотворные новеллы) Марии Французской[2], а также фабльо (лат. басня) и «Роман о Лисе» во французской литературе, «Cento novelle antiche» (Сто старинных новелл), «Декамерон» Боккаччо[3], новеллы Франко Саккетти[4] (1400), «Pecorone» Сер-Джованни[5] (XIV век), новеллы Серкамби[6] (1347–1424) – в итальянской, «El conde Lucanor» Хуана Мануэля[7], «Libro de los exemples» и „Libro de los gatos» (Коты) – в испанской, «Кентерберийские рассказы» Чосера[8] и многие рыцарские романы – в английской, рыцарские романы и «Roman van der Vos Reinaerde» (Рейнеке-Лис, около 1250 г.) – в нидерландской, поэмы «König Rother» (Король Ротер), «St. Oswald» (Святой Освальд), «Orendel» (Орандель), далее – «Нибелунги» и «Гудрун», анекдотическая поэма Стрикера[9] «Der Pfaffe Amis» (Поп Амис), отдельные произведения мейстерзингеров и прозаические романы – в немецкой.
IIIОднако во всех указанных случаях, – а число их можно легко увеличить, – сказочный материал отнюдь не берётся в своём непосредственном или хотя бы близком к нему виде; это именно материал, обращение с которым у авторов весьма свободное: им важна по большей части лишь сюжетная схема, да и с ней далеко не всегда церемонятся.
Нередко используются лишь отдельные эпизоды, мотивы и детали, вступающие в совершенно новые комбинации. Сказки, как таковой, мы здесь ещё не имеем.
Только с середины XVI века, в особенности же со второй трети XVII, в Италии мы можем говорить о введении в литературу собственно сказок. Мы имеем при этом в виду сборники Страпаролы[10] «Le piacevoli notti» (Приятные ночи), 1550–1553 гг., и в особенности Базиле[11] «Lo cunto de li cunti» (Сказка всех сказок) или «Pentamerone» (Пентамерон) – так обычно называют этот сборник.
В сборнике Страпаролы 74 рассказа. В построении своего сборника Страпарола явно подражает Боккаччо; в своих рассказах Страпарола отчасти использует материал Боккаччо, Морлини и других итальянских новеллистов, отчасти опирается на устную традицию.
В числе рассказов есть ряд неприличных, причём героями их, как и вообще часто в итальянской новеллистике, выступают представители духовенства, вследствие чего сборник Страпаролы в 1580 и 1590 годах включался в список запрещённых книг, а в позднейших изданиях часть таких антиклерикальных рассказов исключалась. Сборник получил достаточно широкое распространение, и многие позднейшие итальянские новеллисты заимствовали из него свой материал. В 1560 году первая часть сборника Страпаролы была переведена на французский язык, в 1572 году появился перевод второй части. Сборник Страпаролы использован рядом французских авторов. В числе рассказов Страпаролы есть, между прочим, «Кот в сапогах» (ночь XI, рассказ 1-й), «Девушка в ларце» (I, 4) и «Король-свинья» (II, 1), с сюжетами, близкими к сказкам Перро или напоминающими их («Кот в сапогах», «Ослиная Кожа», «Рике-с-хохолком»).
В истории сказки особенное значение имеет сборник Базиле (1575–1632), первый настоящий сборник сказок в Европе, как характеризует его Больте-Поливка[12]. Сборник этот появился в качестве посмертного издания в Неаполе в 1634–1636 гг. написан он на неаполитанском диалекте. C 1674 года сборник стал обычно называться «Пентамерон (в параллель с «Декамероном» Боккаччо), так как он разделен на пять частей – «дней». Впрочем, название «Pentamerone» имеет я уже в предисловии к первому выпуску 1634 года и в посвящении издания 1637 года.
Хотя Базиле называет свой сборник «детским развлечением», на деле этот сборник предназначен для взрослых читателей. Сборника Страпаролы Базиле, может быть, совершенно не знал и во всяком случае не воспользовался им: сходные сюжеты (их всего четыре) разработаны в обоих сборниках различно.
Базиле пользовался живой устной традицией и в общем в своих 50 сказках верно передал итальянские версии; основное содержание и характер изложения соответствуют у него подлинному фольклорному материалу. Но вместе с тем необходимо отметить, что и Базиле не сохраняет всех особенностей фольклорного изложения и вносит в своё изложение черты, чуждые фольклору. Сборнику придан у него рамочный характер – наподобие «1001 ночи» и сборников типа «Декамерона». Сказки предваряются моралистическими вводными замечаниями и заключаются пословицами.
Сам стиль отличается пестротой, изложение чрезвычайно капризно и прихотливо: то очень простое и приноровлённое для детей, то весьма напыщенное и украшенное метафорами, аллегориями, игрой слов, пышными образами и картинами; в частности, в речах действующих лиц проявляется по временам так называемый «маринизм» (условный напыщенный язык, введённый Марино).
Сборник Базиле несколько раз переиздавался, а также переводился на литературный итальянский язык. Ранние переводы на другие языки неизвестны; во французском переводе, например, появились лишь 4 сказки, и то только в 1777 году. Из числа сказок, вошедших в сборник, сказки «Золушка» (день I, рассказ 6-й), «Гальюзо» (II, 4), «Медведица» (II, 6), «Три феи» (III, 10), «Два пирожка» (IV, 7) и «Солнце, Луна и Талия» (V, 5) сходны по сюжетам со сказками Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Ослиная Кожа», «Феи» и «Спящая красавица».
IVВо французской литературе XVI–XVII вв. особенно охотно использовались рассказы и сказки новеллистического и анекдотического характера. Рабле использует анекдотический материал и в плане своеобразной пародии на сказку о силаче-герое изображает своего Гаргантюа (1532). Никола де Труа[13] в сборнике «Parangon des nouvelles nouvelles» (Образец для подражания» (1536) рассказывает, между прочим, о странных желаниях (№ 53; сходный сюжет мы видим и у Перро), о лжеце (№ 14), о дворянине и аббате.
Де-Перье[14] в сборнике «Nouvelles récréations et joyeux devis» (Новые развлечения и счастливые оценки), 1570 г., рассказывает сказку об Ослиной Коже (№ 129). Сказочный и анекдотический материал используют также ряд писателей, например, дю Файль[15] (XVI век), Табуро (XVI век), д’Увилль (XVII век) и др.
Кроме текстов, в ряде случаев мы находим упоминания о сказках и указания на их популярность; особенно много упоминаний о сказках «Ослиная Кожа» и «Мальчик-с-пальчик». Очень любопытное перечисление целого ряда сказок дает Ноэль дю Файль в книге «Propos rustiques et facétieux» (Шутливые деревенские рассказы) (1547), гл. 6. Он изображает крестьянина Робена, рассказывающего по вечерам у очага сказки жене и работникам, занятым различными работами: «И когда, таким образом, они были заняты различными делами, добряк Робен, установив молчание, начинал сказку об аисте, о тем временах, когда животные разговаривали, или о том, как лиса крала рыбу у рыбаков, как она подвела волка под побои прачек, когда учила его ловить рыбу; как собака и кошка отправились в дальнее путешествие; о льве, царе зверей, который сделал осла своим наместником и хотел быть царем всего; о вороне, которая запела и потеряла свой сыр; о Мелюзине[16]; об оборотне, об Ослиной Коже, о побитом монахе; о феях и о том, как он часто запросто разговаривал с ними, и ещё о том, как вечером, проходя по узкой дороге, он видел, что они водят хороводы близ источника у рябины».
В этом сообщении любопытно и перечисление целого ряда сказок, разнообразных по характеру, и указание на то, что рассказывание сказок являлось крестьянским занятием. Для господствующих классов сказка не была уже живым явлением, не входила в обиход их жизни. Однако во второй половине XVII века картина меняется, – сказки входят в моду и рассказываются в целом ряде салонов. Например, мадам де Севинье пишет:
«Госпожа де Куланж очень хотела познакомить нас со сказками, которыми развлекают версальских дам: это называется занимать их.
Итак, она занимала нас и рассказывала нам о зелёном острове, где воспитывали принцессу, которая была прекраснее, чем день; всё время над нею веяли феи. Прелестный принц был её возлюбленным; оба они прибыли в хрустальный шар, когда этого меньше всего ожидали; это было удивительное зрелище: каждый смотрел на небо и пел, без сомнения: “Идите, идите, сбежимся все, / Кибела спускается [с небес]”.
Сказка длится добрый час; от многого я избавлю вас».
В отличие от сообщения дю Файля, где речь идёт о крестьянах, здесь прекрасно схвачен характер аристократических сказок с их подчёркнутым стремлением к изяществу и к изображению нежных чувств. Конечно, сказки являлись здесь только своеобразным средством развлечения, и им стремились придавать характер, подходящий для «благородного» общества.
Мода на сказку как на салонный устный жанр приходит во Францию в годы расцвета царствования Людовика XIV. Сказки рассказывали в салоне «Mademoiselle», то есть. Елизаветы-Шарлотты Орлеанской, сестры Филиппа Орлеанского, регента королевства; в салоне маркизы де-Ламбер[17], где собиралось изысканное общество и где наиболее видную роль играл Фонтенель[18]; в салоне графини де Мюра[19], написавшей позднее ряд сказок; в салоне госпожи д’Онуа[20], также прославившейся сказками; в салоне госпожи де Камюс, сестры кардинала, герцогини д’Эпернон, графини Граммон, мадемуазель Леритье де Виллодон[21].
Таким образом, почва для появления сказок Перро была подготовлена.
VСборник сказок в прозе Перро, несомненно, представлял собою новое и значительное явление: у него мы находим собственно сказки, и притом сказки, нередко переданные довольно точно и полно.
Ещё до издания своих прозаических сказок (1697 г.) Перро напечатал три рассказа (contes) в стихах: стихотворную обработку 10-й новеллы X дня из «Декамерона» Боккаччо – «Гризельда»; анекдотический рассказ в стихах типа фабльо – «Потешные желания», и настоящую сказку – «Ослиная Кожа» (две последних сказки появились в печати впервые в 1694 году). Из этих трёх произведений «Гризельда» примыкала к готовой литературной традиции; «Потешные желания» в известной мере нарушали установившуюся торжественность стиля, но это произведение всё же имело аналогии и в средневековых фабльо и в «Contes» такого признанного и крупного мастера, как Лафонтен[22], и, таким образом, не являлось полной новинкой. Только введением собственно сказочного материала в «Ослиной Коже» Перро определённо проводил грань между своим творчеством и обычным творчеством защитников «древних»; только здесь он давал нечто новое сравнительно с прежними стихотворными произведениями.
Ещё несравненно большее значение в этом отношении имели сказки в прозе.
В состав первого сборника «Истории, или сказки былых времён» вошло восемь сказок; таким образом, мы имеем у Перро всего одиннадцать сказок (включая и стихотворные). Как в сюжетном отношении, так и по оформлению сказки Перро представляют довольно разнообразную картину.
Сказки Перро обычно называли «волшебными».
Однако это определение подходит не ко всем сказкам в равной мере. «Гризельда» является сказкой чисто новеллистического характера, без всяких элементов чудесности; почти лишена чудесного элемента также сказка «Ослиная Кожа», где только факт появления фей нарушает чисто новеллистический характер повествования; «Потешные желания» – рассказ, в сущности, анекдотического типа, но с включением в него легендарно-чудесных мотивов. Из числа сказок в прозе почти отсутствует волшебный элемент в сказке «Синяя. Борода», где только несмываемое кровавое пятно напоминает о чудесном; ослаблен и даже почти снят реалистическим толкованием «чудесный» характер в сказке «Рике с хохолком»; в сказке «Красная Шапочка» волшебный элемент проявляется только в разговорах Шапочки с волком. Таким образом, только сказки «Феи», «Спящая красавица», «Золушка», «Мальчик-с-пальчик», «Кот в сапогах» относятся к волшебным сказкам.
Как уже указывалось, Перро заимствовал свой материал по большей части из устной традиции.
Довольно точно передавая свои оригиналы в смысле сюжетном, Перро, однако, отнюдь не стремился к точности изложения. Сказки его – не записи фольклорных текстов, а своеобразные литературные произведения, в одних случаях ближе стоящие к фольклору, в других – отходящие от него дальше. Они неоднородны по сложности композиции и по изложению. Наиболее просты по композиции сказки «Феи», «Красная Шапочка» и «Потешные желания», по последняя по изложению отличается от первых более «литературным» характером. Довольно просты также сказки «Синяя Борода» и «Кот в сапогах», значительно сложнее «Золушка», «Спящая красавица» и «Мальчик-с-пальчик»; наиболее литературным изложением характеризуется «Рике с хохолком», а также «Гризельда» и «Ослиная Кожа».
Перро придает сказкам морализующий характер.
Об этом он сам прямо заявляет в предисловии к собранию своих стихотворных сказок (1695). Противопоставляя современные ему сказки античным, Перро говорит: «Я утверждаю даже, что мои рассказы больше заслуживают рассказывания, чем большая часть античных сказок, в особенности такие, как «Матрона эфесская» и «Психея», если рассматривать их в отношении морали, что во всех видах рассказов важнее всего и ради чего они и должны бы создаваться».
Отмечая антиморальный или аморальный характер античных сказок, Перро замечает: «Не таковы сказки, сочинённые нашими предками для своих детей, – они рассказывали их не с таким изяществом и украшениями, какими греки и римляне украсили свои мифы; они всегда весьма заботились о том, чтобы сказки их заключали в себе похвальную и поучительную мораль. Везде в них добродетель вознаграждена и порок наказан. Все они стремятся показать, как выгодно быть честным, терпеливым, рассудительным, трудолюбивым, послушным и какое зло постигает тех, кто не таковы».
Эта характеристика сказок чрезвычайно интересна.
Перро утверждает, что самое важное в сказках – мораль; отсюда его собственные нравоучения, прибавляемые к каждой сказке и иногда, в сущности, притягиваемые за волосы. Особенно выдвигает он нравоучительное значение сказок для детей; и этим сказкам он придаёт местами специфически «детский», т. е. приспособленный для детей, характер. Но как раз «нравоучения» у Перро обычно не подходят для детского возраста, да и в целом он всё же обращался со своими сказками не к детской аудитории.
Перро отмечает также большее изящество, большую отделанность античных мифов сравнительно с позднейшими сказками; естественно, что, вводя сказки в «общество», он стремился придать им более изящный характер.
Деятельность Перро имела, в сущности, двоякое значение. Для литературы введение сказок означало некоторый отход от «высокой» античной традиции, некоторое «опрощение» искусства, своего рода «снижение стиля», демократизацию. Для фольклора же такое введение сказок в аристократическую среду означало значительную деформацию. «Низкий», «простонародный» материал поднимался в аристократические салоны и становился средством развлечения; это было своего рода расширение материала, которым пользовалась дворянская литература. Естественно, при этом сам материал деформировался и приобретал новые качества, а не усваивался механически. Сложное происхождение вело к сложной стилистической системе.
VIВ сказках Перро мы находим в различных сочетаниях три основных элемента: собственно, фольклорную основу – в сюжетах и иногда в словесно-стилистическом оформлении, своеобразную буржуазную окраску – нередко в нравоучениях и во многих деталях бытового характера, и, наконец, аристократическую «прециозность», стремление к изяществу – в трактовке многих сцен и мотивов и в особенности в характере изложения.
Наиболее проста по своему характеру сказка о Красной Шапочке. Элементарность изложения доведена здесь до предела: почти отсутствует описательный элемент, совершенно нет психологических мотивировок и психологических сцен, до минимума сведено и изображение действия. Изложение весьма простое, сообщающее лишь об основных фактах и оживленное диалогами; собственно говоря, диалоги здесь – основная часть рассказа, причём в них характерны повторения и параллелизмы, типичные для фольклорного повествования (особенно показателен разговор мнимой бабушки с Красной Шапочкой).
Сказке явно придан сугубо «детский» характер: очень характерно в этом отношении усиленное употребление уменьшительных и ласкательных форм. В изложение внесено и нравоучительное замечание: «Бедная девочка не знала, что это очень опасно – останавливаться в лесу и слушать, что говорит волк». Это замечание служит как бы переходным мостиком к заключительному нравоучению, но само нравоучение обращено скорее к взрослым девицам, чем к детям, и, конечно, придумано самим Перро, так как фольклорные сказки о нравоучениях не заботятся. В отличие от версии Перро, которая является древнейшим известным нам текстом этой сказки, в фольклорных записях окончание довольно часто благополучное (как, например, в тексте братьев Гримм): Красную Шапочку и её бабушку достают живыми из убитого волка. Возможно, что Перро сознательно не дал такого окончания, так как оно мешало бы его нравоучению.
Сказка «Подарок Феи» также сравнительно очень проста и также довольно явно приспособлена к детскому обиходу; нравоучение её естественно и непосредственно примыкает к содержанию.
Сказка «Кот в сапогах» также довольно проста по изложению, но это в своём роде плутовской роман: вся сказка стремится показать ловкость кота, рисует его мошеннические проделки, – целью которых является благополучие героя, – отнюдь не осуждая эти проделки.