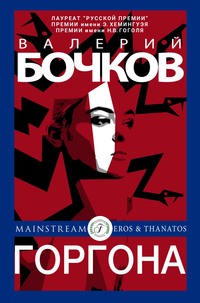Полная версия
Рисовальщик
В среду вечером вернулись в Москву. За двое суток перекинулись дюжиной фраз. Я не пытался наказать Яну молчанием, мне физически трудно было обращаться к ней, смотреть в глаза, слушать скорбные вздохи и междометия.
То ощущение, которое появилось в кипрской больнице, – ощущение фальши, муторной скуки и притворства, – словно рыбная вонь от пальцев, теперь преследовала меня повсюду с утра до вечера: в мастерской, когда я пытался работать, когда пил с приятелями, когда старался заснуть под колючим пледом на кожаном диване в бабкином кабинете, когда спросонья заваривал чай на кухне.
Яна, обладавшая кошачьим чутьём и абсолютным талантом адаптации, выбрала единственный правильный вариант поведения – она растворилась в интерьере. Гордая баба устроила бы скандал, умная – собрала пожитки и хлопнула дверью, хитрая сделала бы именно это – затаилась.
Из спальни долетало журчанье телефонных жалоб подружкам, минорные вздохи с кухни, изредка в полутёмном коридоре скользила смиренная тень. Воскресным утром она возникла в дверях мастерской и слабым голосом сообщила, что устроилась уборщицей в наш овощной. Я отложил карандаш. Стараясь не встретиться взглядом, вылез из окна на балкон и закурил. Она постояла ещё минуты три, пару раз всхлипнула, после тихо ушла.
Магазин «Овощи – фрукты» располагался рядом с аркой; возвращаясь домой, я покупал там сигареты, иногда спиртное. Продавщицы знали меня, помнили мою бабку. Высоченный потолок с двумя люстрами на бронзовых цепях, гранитный пол, похожий на плитки горького шоколада, в арочных нишах раньше красовались фрески – пейзажи то ли кавказских, то ли тосканских просторов с апельсиновыми садами и сиреневыми вершинами на горизонте. Теперь фрески замазали салатовой краской, половину магазина сдали каким-то барыгам. Те, хмурые абреки с криминальными лицами, торговали пёстрой дребеденью – пасхальными шоколадными яйцами, индийскими презервативами, сигаретами, пивом, водкой и турецким печеньем.
Я так никогда и не узнал наверняка, устроилась ли Яна уборщицей в овощной. Просто перестал туда заходить, после того как в нашей кладовке откуда-то появились цинковое ведро с вонючей половой тряпкой и пара синих резиновых перчаток.
Тактика жены оказалась эффективной: к концу второй недели я уже почти убедил себя в неоправданной строгости, к тому же я перестал давать ей деньги, что усугубляло чувство вины. До этого деньги лежали в ящике письменного стола в кабинете – пачка стодолларовых банкнот в жестяной коробке из-под дореволюционного монпансье «Марлен Руа». По мере надобности мы просто меняли одну-две купюры на рубли, инфляция и трюки минфина учили быстро: павловская реформа сожрала у меня пять тысяч настоящих советских рублей – наличными! Остальные три тысячи сгорели на счету сберкассы.
Основной мой капитал лежал в Шотландском Королевском банке, уголовную ответственность за валютные операции никто пока не отменял, поэтому я перед возвращением домой просто снимал со своего счёта две-три тысячи, привозил деньги в Москву и убирал их в ящик письменного стола. В жестяную коробку из-под монпансье. Одной купюры с портретом Бенджамина Франклина нам хватало на месяц: билет в купе люкс «Красная стрела» стоил пять долларов, банкет с икрой и шампанским в ресторане ЦДЛ на дюжину персон – сорок – пятьдесят долларов, двухлетний «жигуль» шестой модели можно было купить за триста пятьдесят, трёхкомнатную квартиру в моей высотке – за две тысячи долларов.
9К понедельнику чувство вины стало невыносимым. Прямо с утра, после того как Яна, демонстративно погремев ведром в коридоре, захлопнула входную дверь, я начал обзванивать знакомых. Диплом журфака, опыт работы на радио и в литературном журнале нынче котировались не слишком высоко, больше ценилось умение торговать или драться. К полудню, когда у меня уже был список из трёх позиций, неожиданно перезвонил Мещерский и радостно сообщил, что только что уволил Катьку и готов взять мою супругу на должность администратора ресторана Дома литераторов. Меня всегда слегка настораживала излишняя дружелюбность Мещерского по отношению к Яне. На мой вопрос о квалификации он ответил просто:
– Да что там уметь – ты Катьку видел? Ноги, сиськи и жопа – вот и вся квалификация! Твоя Янка по сравнению с ней Эйнштейн и Мадонна в одном комплекте. Привози завтра ближе к вечеру, всё оформим, заодно и перекусим. Тут как раз осетринку подвезли, горячего копчения, нежнейшая. Трудовую книжку не забудь!
Ночью Яна пришла ко мне в кабинет, стянула через голову рубашку, легла рядом на диван. То была самая странная близость – ни я, ни она не произнесли ни единого слова. Мы не целовались, она всё проделала сама, сев на меня, молча и неторопливо, будто делала массаж или проводила сеанс физиотерапии, – должно быть, так бывает с проститутками. Закончив, она бесшумно поднялась, захватила ночную сорочку и ушла.
Следующим вечером я тихо вернулся в спальню.
Склеенная ваза – метафора, конечно, так себе, на троечку, но именно такой вот вазой виделись мне наши новые отношения с Яной: трещины почти не заметны, но цветы не поставишь. Воду в такую вазу наливать не стоит.
Мы были муторно вежливы друг с другом. Просто как А. А. Каренин и супруга его Анна Аркадьевна. Спасительным оказался режим новой работы: она возвращалась поздно, после одиннадцати, я уже читал в постели или притворялся спящим. По утрам Яна дрыхла до десяти, к этому времени я уже вовсю работал у себя в мастерской.
Работа не клеилась ни в какую. Ну совсем никак. Я комкал и рвал эскизы, идеи казались банальными и скучными. Пошлые и шаблонные приёмы – вторичный мусор, который уже был у кого-то. Причём был интересней, живей и оригинальней, чем у меня. Я снова срывал лист с подрамника, мял в тугой комок, бросал в угол. Вылезал на балкон, вытаскивал сигареты. Теперь я больше времени перекуривал, чем рисовал.
Ян-Виллем не звонил, я ему тоже. Дни тянулись мучительно и бессмысленно, уже к трём невыносимо хотелось выпить. До половины четвёртого я держался, потом шёл в гостиную и, прихватив бутылку коньяка, возвращался в мастерскую. Отхлёбывал из горлышка, так казалось безобидней, вроде как не пьёшь, а так чуть глотнул – вроде бы понарошку.
Коньяк помогал. Нечто вроде кокона – прозрачной и прочной скорлупы формировалось вокруг меня, некая защита от враждебной среды снаружи. Что-то вроде скафандра для выхода в открытый космос. Для паники повода нет, твердил я, стараясь заснуть. Яна приходила, не касаясь меня, ложилась рядом.
Страшнее всего было странное чувство то ли тотальной тоски, то ли абсолютного одиночества, когда я просыпался среди ночи рядом с ней, она спала не просто тихо – беззвучно; за окном висела густая чернота, немая и плотная, я прислушивался к её дыханию, пытался уловить хоть какой-то шорох или шелест с улицы. Ничего – пустота! То был странный глухой час, когда никто никуда не шёл и не ехал. Думаю, именно от этого безмолвия я и просыпался. Необъяснимый ужас накрывал меня. Точно бык на бойне, звериным инстинктом чуял я – спасения нет. Мир летит в пропасть, и я лечу вместе с ним. Лишь мой неисправимый инфантилизм и дьявольское везение имитировали жизнь – надежду и будущее. Я успешно прозевал все знаки гибели, закрывал глаза и не желал видеть знамения. За мишурой триумфа пряталась непоправимая беда, под позолотой скрывалась ржавчина, под румянами – тлен: покойник выглядит даже лучше, чем при жизни, но это не повод отменять похороны.
Симуляция счастья – комбинация ингредиентов в правильной пропорции: деньги, удача плюс отрицание реальности с помощью алкогольных напитков крепостью выше сорока градусов – это не более чем умелая декорация. Золотой серп месяца нарисован на бархате чёрного неба, натянутом на обычную фанеру, рыцарский замок на живописной скале, туманные сады и таинственное озеро с лунной дорожкой – никакое это не чудо, а простая оптическая иллюзия. И та тропа, что вьётся и уходит в манящую даль, никуда она не ведёт на самом деле.
Никуда.
10Кадры крушения поезда в замедленной съёмке – мы все их видели, они завораживают. Я нахожусь в этом поезде, сижу в предпоследнем вагоне у окна. Я смотрю на вас. Вот я махнул вам рукой – теперь видите?
В ящике письменного стола среди мелкого канцелярского хлама и откровенного мусора мне удалось раскопать записную книжку с деловыми контактами. Я не открывал её года три. Первым делом решил позвонить Саше Архутику. Он работал в «Молодой гвардии», и помимо его «Собеседника» там издавались «Вокруг света», «Техника молодёжи» и ещё пяток журналов, куда я когда-то делал иллюстрации и рисовал обложки. После трёх гудков трубку подняла тётка с провинциальным выговором.
– Архутик? – Она сочно гыкнула. – Это чё такое?
– Главный художник журнала «Собеседник».
– Нету тут никаких журналов, – радостно оповестила она меня. – Компьютерная фирма тут «Консул-М». Компьютер желаете приобрести? Элитной конфигурации?
Слово «компьютер» ей удалось выговорить настолько мерзко, что я тут же нажал отбой.
«Химия и жизнь» не отвечала. Андрей Луцкий уволился из «Кругозора», Васильев ушёл из «Детской литературы» год назад, «Векта» перешла с книг на подарочные альбомы про сокровища Кремля и Золотое Кольцо России, Никита из «Коммерсанта» обещал перезвонить, если что-нибудь проклюнется.
В рекламном отделе «Интуриста» ни Рады, ни Коноваловой не осталось, новый арт-директор хамовато заявил, что использует только фотографии, поскольку иллюстрации сегодня не актуальны.
Телефонные звонки напоминали прогулку по кладбищу.
«Работница» и «Крестьянка» честно признались, что у них просто нет бюджета, чтобы платить гонорары художникам. «Здоровье» ютилось в одной каморке, сдавая четыре редакционных комнаты под офис каким-то бандитам.
– Зачем бандитам офис? – по инерции спросил я.
Позвонил Димке Горохову, мы с ним учились на худграфе, потом он ушёл в галерейный бизнес. Года три назад я был на вернисаже в его галерее где-то в районе Чистых прудов. Дела у Димки явно шли в гоу.
– Старик! – обрадовался Горохов. – Не поверишь, как раз собирался тебе звонить!
Я закурил и благодушно выпустил дым в потолок.
– Слышал-слышал про твои победы. – Горохов говорил быстро и радостно. – Эдинбург – это ж триумф, старик! Европейский фестиваль искусств – персональная выставка! И серия к «Страстям по Иоанну» – слов нет! Титан!
Горохов ещё минуты три восторгался моими успехами, я его слушал, потом перебил:
– Димыч, ты говоришь, что хотел мне звонить?
Повисла неприятная пауза. Горохов кашлянул.
– Старик, мою галерею отжимают. – Он шумно вдохнул и скороговоркой продолжил: – Особняк в центре, девятнадцатый век, только ремонт сделал – в марте закончили, паркет реставрировал, печи голландские с изразцами… – Он выматерился. Горохов не ругался матом даже в институте. – Старик, я помню, у тебя бабка была козырная, может, какие-то связи остались? У тебя… – Горохов запнулся. – В Минюсте? В прокуратуре? Или на Лубянке?
– Димыч…
– Наша юристка вчера уволилась. После встречи – представляешь? Встретилась с ними и заявление на стол. Не хочу, говорит, чтоб дети мои сиротами росли…
– Димыч…
Он снова выругался и замолчал.
– А ты Глебу звонил? – спросил я скучным голосом. – У него вроде папаша…
– Глеб свалил. В Германии он. В Дессау преподаёт.
– В Баухаузе?
– Ага, в нём самом.
11Ванда появилась дней через пять после той встречи внизу, когда она ела немытую клубнику из моего пакета. Был вечер, чуть позже девяти. Позвонили в дверь, в глазок был виден лишь силуэт, я собирался спросить, кто там, но она опередила меня.
– Это я, – сказала. – Соседка голая. С балкона. Открывай.
Она не шутила – почти не шутила. На ней была короткая ночная рубашка из какой-то белой марли, сквозь которую просвечивали соски и всё остальное. Вдобавок она была босая.
– Ты что делаешь? – спросила она невинно. – Не очень занят?
– Зайди… – Я отступил, приглашая её в квартиру.
– Нет, пошли ко мне. Я за тобой…
– А-а…
– Бунич в Торонто. С делегацией. Пошли.
Не очень успешно я старался не пялиться на её грудь. Незаметно вытер ладошку о штанину – за минуту я вспотел, как в бане.
– Да… Сейчас… Мне только нужно… – Я конвульсивно пытался соврать хоть что-то. – Я сейчас-сейчас… Сигареты только!
Пачка лежала в заднем кармане джинсов.
Я быстро пробежался по коридору, заскочил в тёмную ванную. В зеркало прошипел зло тёмному отражению:
– Ты же сам хотел… Хотел же?
Никого из соседей не встретили. Тёмный двор был наполнен лиловыми сумерками с отсветом жёлтых окон. Её босые пятки шлёпали по асфальту. У подъезда она быстрым пальцем потыкала в кнопки кода, внутри пискнуло, потом звякнул замок.
– Год казни Жанны д’Арк. – Она толкнула железную дверь. – Легко запомнить.
Лифт остановился на восьмом этаже. Мы вышли, но вместо лестничной площадки сразу упёрлись в стену. Стена была новой, с большой дверью из хромированного металла, как у дорогого модного сейфа. Такие обычно бывают в американских фильмах про ограбление банка.
В детстве мы с Колькой Корнеевым гоняли в хоккей на нашей лестничной клетке, двери наших квартир выступали в роли ворот, дистанция между ними была двадцать два метра – мы измеряли рулеткой. Бабка говорила, что у нас в доме меньше половины всей площади является жилой. Рассказывала, что за стенами квартир есть тайные комнаты и ходы, где раньше прятались чекисты (она называла их эмгэбэшниками) и записывали разговоры жильцов в блокноты. На всякий случай она понижала голос, косым взглядом показывая на решётку вентиляции под потолком. Они – зловещие чекисты без лиц под чёрными шляпами и в плащах с поднятыми воротниками – даже снились мне в ночных кошмарах: они, подобно призракам, выплывали из стен и безмолвно сжимали кольцо вокруг моей кровати.
Ванда открыла дверь, мы вошли в неожиданно большую прихожую с аркой, по бокам которой стояли две искусственные пальмы с фальшивыми кокосами. Макушками они упирались в потолок, а потолки у нас под четыре метра. В пластиковой листве правой пальмы притаилась рыжая макака – тоже ненастоящая. Я невольно ткнул пальцем в сторону пальмы.
– Не обращай внимания. – Ванда потянула меня в глубь квартиры. – Бунич это. Он из Челябинска.
За аркой оказалась огромная комната размером с актовый зал в нашей восьмой спецшколе. Мне этот Бунич нравился всё меньше и меньше. Судя по всему, он купил весь восьмой этаж в подъезде. Вместе с лестничной площадкой.
На трёх окнах висели бархатные шторы цвета засохшей крови с золотым турецким орнаментом. Пол был выложен белым мрамором, в углу громоздился камин с парой толстых колонн по бокам и кованой решёткой. За ней аккуратным манером были сложены берёзовые чурки.
– А куда… дым-то куда? – спросил я растерянно. – У вас что, своя труба?
– Да нет. – Ванда отмахнулась. – Бутафория. Не разрешили дымоход на улицу вывести. Даже через мэрию не смог пробить – представляешь?
Она снова потянула меня за собой. Из комнаты мы вышли в коридор, прошли через спортзал с зеркальной стеной от пола до потолка и рядом тренажёров напротив, тут воняло, как в отделении милиции, сапожной ваксой и мужским потом; за стеклянной дверью виднелась уютная сауна, мы прошли мимо и попали на кухню.
Тут всё было белым – кафель, пол, шкафы и кухонные машины и агрегаты, вокруг длинного и белого стола стояли неудобные – даже на вид – табуретки с сиденьями, обтянутыми белой кожей. Ванда открыла холодильник и достала бутылку «Столичной». Я подошёл к окну; небо на востоке погасло и стало пепельным, в изгибе неподвижной Яузы отражался кусок рыжего заката, за горбатым мостом плоским силуэтом чернели дома Садового кольца. Над ними висел прозрачный полумесяц.
Ванда протянула мне стакан, там было на глоток.
– А ты? – Я взял стакан.
– Потом. Пей.
Я выпил, поставил пустой стакан на край стола. Пальцы были в краске. Хорошая водка, отметил про себя. Прохладная, но не ледяная, качественную водку только так нужно. Чистую майку надо было надеть, чёрт…
– Пошли… – Ванда кивнула в сторону двери.
Я не ожидал, что всё произойдёт настолько буднично.
Вопреки тёщиным гипотезам я не изменял её дочке. Ни разу. И дело не в том, узнала бы Яна о моей супружеской неверности или нет, дело было во мне. Достаточно того, что об этом знал я.
Помню, отец привёз мне джинсовый костюм – тёмный деним, медные заклёпки, кожаный ярлык с ковбоями, которые хлещут кнутами коней, – в школу я пришёл козырем, ещё бы, настоящий «левис», а не какой-то там «супер райфл» из «Берёзки». Чудо закончилось в тот момент, когда на маленькой этикетке внутри штанов я разглядел крошечную надпись «Made in China». Китай? Джинсовый костюм из Китая?
Нет, я не перестал носить костюм, но праздник был испорчен.
12Темень в комнате показалась кромешной. Я задержался в дверях, Ванда подтолкнула меня в спину и щёлкнула выключателем. Спальня осветилась красноватым светом, комната состояла из громадной кровати размером с боксёрский ринг и зеркала во весь потолок. Это было чересчур даже для человека из Челябинска. Постельное бельё, чёрное и какое-то скользкое на вид, было сильно скомкано и помято. Поперёк кровати лежала девица в лифчике и трусах. Хрупкая до худобы, она лежала навзничь, вольно раскинув руки. Казалось, что девица чуть удивлённо разглядывает своё отражение в зеркале на потолке.
– Милка… – сказала сзади Ванда. – Передоз… Мы думали, кокс…
Милка нюхнула и…
Только тут до меня дошло, что девица была мертва. В комнате воняло ацетоном.
– Не нашла… этой, как её…
– Чего? – спросил я тихо.
– Ну этой дряни, на ватке? Вонючей?
– Нашатырный спирт, – подсказал я.
Последний раз я видел мертвеца, когда с нашей крыши свалился дворник – сбивал сосульки. Он упал в сугроб, который оказался глыбой промёрзшего снега. Крови не было, мертвец походил на ворох тёмного тряпья из которого торчала босая нога. Валенок с галошей отлетел метров на двадцать.
Я повернулся к Ванде:
– Надо звонить в милицию.
Она укоризненно покачала головой.
– Нельзя, – сказала. – Бунич меня убьёт.
Она произнесла фразу просто, без эмоций, но я понял, что это не фигура речи. На стене висел двухметровый эстамп в чёрной раме и чёрном паспарту. Мужская фигура, тощая и изломанная, напоминала распятого Христа. Тело, пёстрое и мозаичное, было составлено из переплетения цветов, птиц и бабочек, лицом был распластанный перламутровый махаон, а фаллос изображал изумрудный тукан с гигантским рыжим клювом. В манере и колорите чувствовалось влияние раннего Филонова.
– Шемякин. Помнишь, я тебе говорила? «Искушение» называется. Он говорил, что сначала…
– В милицию надо звонить, – перебил я.
Ванда посмотрела мне в глаза внимательно и спокойно:
– Ментов я и без тебя могла бы вызвать.
Она продолжала пялиться мне в глаза. Я кашлянул, отвёл взгляд. С минуту мы стояли молча.
– Ладно, – наконец сказала она. – Иди.
– Слушай…
– Иди-иди. Иди!
Она устало махнула рукой, точно ставила на мне крест. Жест и интонация напомнили мою бабку, её тон и жест, когда я приносил домой трояк. За двойку, думаю, старуха меня просто бы убила. Разрубила бы парадной шашкой по диагонали.
– Не понимаю, ну а что…
– Не понимаешь – и топай! – отрезала Ванда. – Тебя проводить или сам найдёшь дорогу?
Из детского опыта я знал, тут важно сдвинуть фокус. Нужен отвлекающий манёвр.
– А может, это кома? – брякнул я первое, что взбрело в голову. – Может, «скорую» вызвать?
– Ну какая на хер кома? – Она рассердилась. – Ты что, покойников не видел?
– А пульс… Или зеркальце к носу?
– Зеркальце…
Ванда взглянула брезгливо и отвела взгляд. Мой кредит доверия стремительно приближался к нулю. Терять уже было нечего. Тут нужно идти ва-банк.
– Ты! – рявкнул я так, что она удивлённо изогнула бровь. – Слушай, ты! Ты меня видишь второй раз в жизни…
– Балкон не посчитал, – перебила Ванда сдержанно. – Третий раз.
– Ну третий! Какая разница! Ты ни хрена обо мне не знаешь, но по непонятной причине уверена, что я буду исполнять все твои идиотские капризы!
Я уже орал и махал руками перед её лицом. Истерика напоминало агонию, стыд исчез, ощущение свободы пьянило. Русский человек в кураже прекрасен и отвратителен одновременно.
– У моей жены был выкидыш на шестом месяце! Я понятия не имел о её беременности! Все шесть месяцев! И я совсем не уверен, что ребёнок мой! Совсем не уверен!
Ванда слушала с интересом, но без эмоций.
– Я не могу рисовать! Ничего не выходит, ты понимаешь – ни-че-го! – Я звонко лупил кулаком в ладошку. – Уже месяц! Идей нет – ноль идей! Ноль! Тупик это! Конец!
Я ещё немного покричал, но вскоре выдохся, сник и замолчал.
– Это всё? – спросила она. – Или что-то ещё не так?
– Всё, – буркнул я. – Если не считать, что полиграфии в этой стране больше не существует. Книги, журналы – всё сдохло к чёртовой матери… Всё…
Я перевёл взгляд на Милку. Она продолжала удивлённо разглядывать своё отражение в зеркале на потолке. Ванда губами издала чпокающий звук, словно откупорили небольшую бутылку.
– Извини, я не знала… – По её тону я не мог понять, серьёзно она говорит или издевается. – Тебе сколько лет?
– Сорок… с половиной.
Ванда скорбно покачала головой, как доктор, которому принесли результаты твоих анализов.
– Депрессия? – спросила.
Я кивнул.
– Спишь плохо?
– Да вообще, считай, не сплю…
– Алкоголь?
– Ещё как.
– Наркотики?
Я отрицательно мотнул головой и покосился на Милку.
– Не отвлекайся. – Ванда щёлкнула пальцами у меня перед носом. – Отметил бы ты ухудшение общего физического состояния…
– Моего?
– Ну не моего же!
– Не знаю…
– Сексуальные отношения с женой?
– Редко и неохотно. Обычно по пьяни.
– Мастурбируешь?
– Что? – Я негодующе вскинул подбородок.
– Ну что-что? Дрочишь, спрашиваю?
– Какое это имеет отношение имеет…
– Значит, дрочишь. Это хорошо.
– Ты что, доктор? – спросил грубо, но она не обратила внимания и продолжила задавать вопросы:
– Склонность к самоубийству?
– Ну, знаешь…
– Ясно.
– Что тебе ясно?!
– Ты считаешь, что жизнь несправедлива?
– Я тебе только что…
– Понятно. Изменения в шкале ценностных ориентиров произошли? Сменились ли прежние авторитеты? Девальвация интересов, которые казались прежде важными? Ощущение ловушки в браке или карьере?
– Да! Да! И ещё раз да!
– Не ори! – Ванда хмыкнула, поправила указательным пальцем воображаемое пенсне на носу и грассирующим докторским голосом проблеяла: – Ну что ж, голубчик!
Дела у нас неважнецкие, скажу прямо. У вас, милостивый государь, глубочайший кризис среднего возраста, совпавший с коллапсом советской империи. Диагноз неутешительный, но не фатальный. Будем лечить вас клизмами с шампанским, оральным сексом и током в пятьсот вольт.
13Разумеется, я бы мог рассказать ей, что моим самым первым детским воспоминанием был мёртвый фокстерьер по кличке Зигмунд, которого сбил таксист на улице Володарского. Моя бабка не придумала ничего лучше, чем положить труп собаки в мою коляску. Была поздняя весна, я помню ярко-зелёные листья сверху, горький тополиный дух; бабка катила коляску, у мёртвой собаки во рту белели мелкие зубы и высовывался кончик розового языка. Надо мной по диагонали плыло весеннее небо с клочьями белых облаков.
Через год мои родители развелись и почти сразу обзавелись новыми супругами – в те годы, похоже, быть холостым считалось неприличным. Они разъехались: отец в Кунцево, мать – на проспект Мира. Я застрял на Таганке. Бабка энергично взялась за моё воспитание, ей не было и шестидесяти, её муж – мой дед – умер за два года до моего появления на свет.
Раз-два в неделю мы навещали его на Ваганьковском; бабка отпирала ограду, садилась на скамейку перед могильным холмиком, доставала носовой платок и папиросы и начинала тихий укоризненный монолог. Дед явно был виноват практически во всём. Виноват лично. Я играл между крестов и обелисков в индейцев: то притворяясь коварным ирокезом, бесшумно скользящим по узким лабиринтам кладбищенских аллей, а то охотником за скальпами, кровожадным команчем, что караулил свои жертвы в кустах сирени у колонки, к которой стекались беспечные бледнолицые бабульки со своими лейками и вёдрами для полива кладбищенской флоры.
Или просто бродил между оград, крашенных серебрянкой, и разглядывал фотографии мертвецов и читал их имена и фамилии. На дальнем конце кладбища, у самого забора, мне попалась Любовь Крыс, девочка умерла в семилетнем возрасте ещё до войны, избавив себя от стольких мук и издевательств. Аполлон Иннокентьевич Кашолкин дожил до преклонных лет и, должно быть, свыкся с именем, отчеством и особенно фамилией. Из мутного овала на меня смотрел ехидный носатый дед, похожий на Дуремара из «Золотого ключика». Под белой плитой с мраморным скрипичным ключом лежала Татьяна Кочура, бровастая брюнетка с порочным взглядом и голыми плечами.