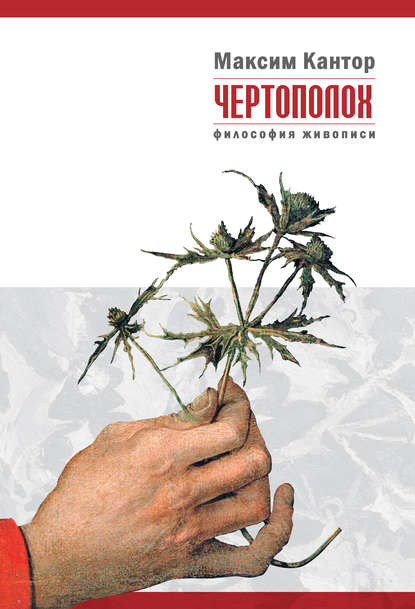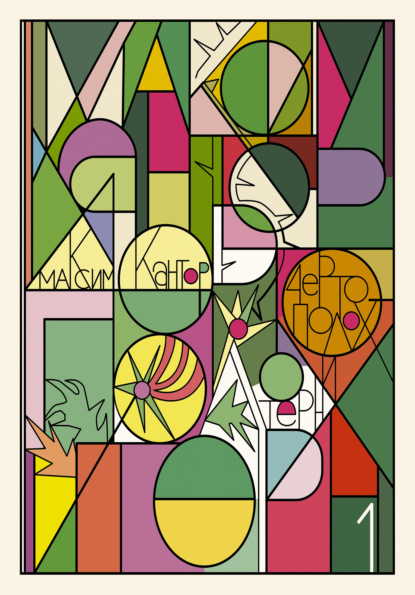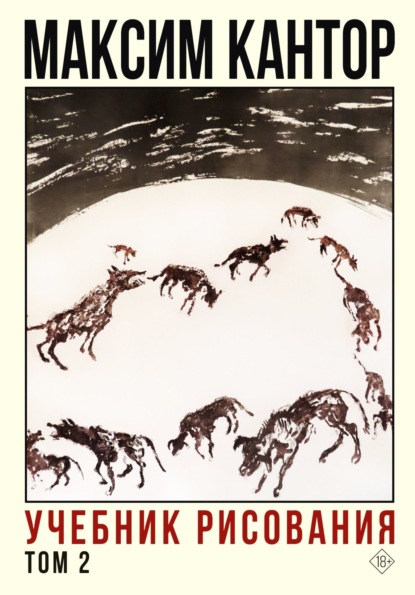Полная версия
Учебник рисования. Том 1
А гости продолжали прибывать. Посол Австрии прошел через зал и остановился возле Маркина. Они обнялись, а потом седобородый Маркин представил свою стриженую спутницу, и Павел увидел, как посол склоняется к ее руке.
Вот люди коммерческие, представлявшие аукционы, они смотрели на картины чуть внимательнее прочих посетителей, один из них даже трогал пальцем. Как сказала девушка за спиной Павла, «понятно ведь, что эти вещи через год-другой будут стоить миллионы». И ее спутник ответил: «Что ты, Лиза, гораздо раньше». Что ж удивляться тогда, что приехали галеристы и коммерсанты. Понятно, что не приехали бы, если бы дело того не стоило. Какое еще нужно доказательство значимости происходящего? А вот – ведь это же сам Ричард Рейли, да, тот, у которого самая большая коллекция Ворхола, это он приехал. Как, вы не знаете Рейли? Впрочем, близко никто его не знает, он новое лицо в просвещенной Москве. Но слышать-то слышали, наверняка ведь слышали? Что-то такое говорили про компанию «Бритиш Петролеум», в которой он не то директор, не то президент. А что такое «Бритиш Петролеум»? – спрашивали любопытные. Ну, компания такая капиталистическая, чего-то они там такое делают, петролят там что-то важное, богатый, одним словом, человек, не нашим оборванцам чета. Он и с королевой знаком, и в Кремль хаживает. Такие люди ведь дорожат своим временем. Если приехали они – это совсем не случайность, это поворот в событиях. Сегодня действительно изменилась история, сегодня она пошла совсем по другому пути. Вот представители «Радио ”Свобода”» и «Русской мысли». Разве вчера могли мы себе представить, что такое возможно: работники «Русской мысли» приехали в Москву и им не крутят руки. Ждали Ирину Иловайскую, главреда издания. Неужели приедет? – шелестела толпа. Как, Иловайская, та самая, которую, будь их воля, растерзали бы партийцы, разорвали бы прямо у трапа самолета? Нет, не сама, но ее правая рука – именитый колумнист Ефим Шухман, умница, звезда «Русской мысли», тот, что эмигрировал пятнадцать лет назад, – видите, прибыл и ходит не прячась. Вот, слышите? Это он разговаривает с диссидентом Маркиным, оба натерпелись от партийцев, им есть о чем поговорить.
Впрочем, вот и партийцы, они самые, и они тоже приехали, чтобы не отстать от жизни. То здесь, то там мелькнет знакомое по газетным фотографиям лицо, наблюдает, присматривается. «Ах, неужели ты думаешь, Лиза, что они не прислали сюда десятка полтора стукачей?» – «Ты полагаешь, что и сегодня? Вот сюда?» – «Конечно. Как можно быть такой наивной». И девушка Лиза захлопала серыми глазами: «Быть не может!»
Из бывших явились недавно еще гремевшие и грозившие, одно слово – фигуры: инструктор ЦК партии по идеологии Иван Михайлович Луговой по прозвищу Однорукий Двурушник (руку он потерял на фронте) и замминистра культуры Герман Федорович Басманов. Оба в немнущихся черных тройках с широкими галстуками, набриолиненные, с тяжелыми лиловыми щеками. Луговой шел вдоль полотен под руку с супругой своей Алиной Багратион. Алина Багратион и сама по себе была дамой известной, не оставившей, как говорили люди осведомленные, ни одну постель в Москве несогретой. Басманов же дефилировал по залу с личным секретарем Славой, тихим юношей, тонким, белокурым. Оба сановника явились как частные лица и подчеркнули приватность, приведя с собой свои прекрасные половины. То, что Багратион действительно в постели представляла собой нечто прекрасное и памятное, Иван Михайлович, как признанный знаток, засвидетельствовал однажды Басманову на даче в Переделкино за рюмкой армянского коньяка. А Басманов, даром, что в амурных баталиях представлял совсем иной род войск, выслушал с пониманием, щурясь, кивал. «Хоть и не на Багратионовых флешах сражаемся, а понимаем», – сказал Герман Федорович. Иван Михайлович даже позволил себе в тот вечер шутку, грубоватую, но позволительную бывалым мужчинам, а главное – снимающую пустые разногласия в половом вопросе. «Ах, – сказал он, пародируя восточный акцент, – малчик, дэвочка – какая, в жопу, разница?» И оба рассмеялись. Сегодня оба чиновника – пусть их отставка и была уже почти очевидна – люди со связями, деньгами и влиянием, шли по залу запросто и даже здоровались с некогда опальными художниками, хлопали по плечу. «Видишь, – говорил Басманов, останавливая знакомца Дутова, потрепав его по щеке, – вот и твое время пришло, Дутов, говорил же я тебе: подожди, не суетись, еще свое возьмешь. Теперь пользуйся. Не упусти момент». И некогда опальный художник позволял себя трепать по щеке, ему уже то было в радость, что сегодня они говорят с Германом Федоровичем не через стол в министерстве, а на равных. Он даже потрепал Басманова по плечу в ответ, жест в былые времена невозможный, и Басманов улыбнулся, сверкнул коронками.
Сегодняшний день поменял все. Сегодня те люди, которых гнали и преследовали, поняли, что победители – они.
Вот либерал Борис Кузин, автор сборника статей «Прорыв в цивилизацию», легендарного сборника, который чуть было не вышел в издательстве «Прогресс». Говорили, глухо и невнятно, что главный редактор «Прогресса», человек, в сущности, «свой» и порядочный, и даже крестный отец детей Кузина, будто бы сам в последний момент испугался последствий и отдал приказ пустить уже набранную книгу под нож. Будто бы приехал в ту злосчастную ночь главный редактор домой к Кузину, и сидели они с бутылкой водки до утра на шестиметровой кузинской кухне, и только под утро, пьяный и жалкий, главред рассказал, что он наделал. «Борька, – сказал сегодня Семен Струев, обнимая Кузина, – если завтра они не начнут печатать ”Прорыв”, я сам, слышишь, от руки его перепишу и здесь развешу по стенам». Но Кузин лишь рассмеялся в ответ, прижимая Струева к груди и целуясь крест-накрест. «Еще третьего дня позвонили – и сказать тебе откуда? Из журнала ”Коммунист”» – «Врешь!» – «Ей-богу. Только его переименовали. Он теперь называется ”Актуальная мысль”». И тут оба они захохотали в голос, а новость передавали по залу, и зал гудел от хохота: «Актуальная мысль!», «Да нет, ты представь!», «Шакалы!».
И приехавший из Лондона специалист по буддизму Савелий Бештау, тот, кому строжайше запрещено печататься в России, рассказал, что его вызвали в Москву специальным письмом и здесь будут срочно издавать его собрание сочинений. «Мы виноваты, – сказали ему в издательстве. – Мы должны были это сделать тридцать лет назад. Чем мы можем загладить свою вину, Савелий Ашотович?» – «Ах, помилуйте, – ответил Бештау, – не стоит издавать мое собрание сочинений. Мне будет довольно того, что вы сожжете собрания сочинений Маркса и Ленина. Договорились? Считайте, что мы в расчете».
Бештау встал между экономистом Тушинским и немцем фон Шмальцем, а те в свою очередь подтащили поближе Струева и Кузина, и все обнялись за плечи, и фотограф Лев Горелов, огромный, лысый, с усами, закрученными под самые глаза, заорал с другого конца зала: вот так и стойте, не шевелитесь, снимаю для истории! «Придется нам украсить себя для истории», – галантно заметил фон Шмальц и, выхватив из толпы стриженую спутницу Маркина, поставил ее в центр группы. Та растерянно оглядывалась и протянула было руку позвать мужа, но Виктор Маркин отмахнулся: меня, мол, уже наснимали в свое время, и в фас, и в профиль.
Горелов, широкий и шумный, пошел сквозь толпу, толкаясь камерами и штативами, попутно целуясь со знакомыми. Как один человек может создать давку, непостижимо, однако он произвел волнение в зале, толпа подалась в стороны. Павла несколько раз повернуло в толпе и вынесло на фотографическую группу, прямо к стриженой девушке, теперь они оказались стоящими грудь с грудью, и Павел смутился. К тому же кто-то, кажется буддист Бештау, положил ему сзади руку на плечо и дружески сжал.
Дойдя до них, Горелов раскинул штатив, насадил на него камеру. «Хотите, скажу честно? – Горелов, известный фантазер, начинал всякую фразу с этой присловки. – Хотите – честно? Делаю кадр века. А ну-ка, посмотрели на меня!»
IVИ здесь случилось неожиданное. Партиец Луговой, прохаживающийся со своей женой Алиной Багратион вдоль холстов, вдруг изменил направление, прямо пошел к группе диссидентов и, выделив из прочих Струева, единственной своей рукой крепко его обнял за шею.
– Держись, – сказал он, – все хорошо, что вовремя. Теперь тебя поддержат.
И не успела группа отреагировать на вторжение, как Алина Багратион вслед за супругом вошла прямо в центр собрания и приняла стриженую девушку под локоть и зашептала ей на ухо, а Павла обняла за талию.
– Только что, прямо перед вернисажем, стало известно, – громко сообщил Луговой, так, чтобы слышали все, – Михаил Сергеевич Горбачев, наш генеральный секретарь, позвонил академику Сахарову.
Посол фон Шмальц при этих словах тонко улыбнулся, как человек информированный. Струев, циничный и видавший виды, покривился, но прислушался. Бештау наклонил большую голову. Тушинский, бледное лицо которого выражало неприязнь, придвинулся ближе, готовясь сказать обидное о генеральном секретаре партии.
– Андрею Дмитриевичу Сахарову позвонил? В ссылку? – спросил Кузин.
– В город Горький? – уточнил Бештау.
– Именно. Горбачев так сказал: засиделись вы в Горьком, Андрей Дмитриевич. Возвращайтесь в Москву. Пора.
– Вот как? А Сахаров что?
– Что ответил академик, я не знаю, а Горбачев сказал: потерпите, дайте мне только маховик раскрутить, а дальше само пойдет, не остановишь процесс.
– Так и сказал? – спросил Кузин, подхватывая реплику; впрочем, та и рассчитана была на реакцию. – Горбачев сам позвонил? Маховик раскрутит? Настроен серьезно?
– Крайне серьезно.
– Они были знакомы?
– В том-то и дело, что нет. Для Горбачева это символический жест.
Стриженая девушка сказала негромко: «Маховик не крутят».
Луговой услышал ее реплику, послал улыбку в ответ.
– Маховик не крутят, верно. Но процесс идет.
– Какой же процесс он собирается запускать, – осведомился Бештау, – троцкистско-зиновьевский или бухаринский?
– Процесс реорганизации общества, – веско сказал Луговой.
– Процесс, вероятно, в духе Кафки, – заметил мучнистый Тушинский, – горбачево-кафкианский, так сказать, процесс. А ваше ведомство, простите, не знаю, как вас по батюшке, обеспечит успех. Правда?
– Вы по какому ведомству меня числите, Владислав Григорьевич?
– По лазоревопогонному. Вот вы имя-то мое откуда узнали?
– Кто же сегодня не знает Владислава Тушинского? Как нам изменить Россию в пятьсот дней! Блестящая мысль, Владислав Григорьевич, своевременная мысль, очень даже! Дерзко, неожиданно, ярко! Проект ваш на редкость популярен – не знать его невозможно. Мне Горбачев так сказал: просто, говорит, досадно, буквально мою собственную идею украл. Изо рта, говорит, слово выхватил! Ну, думаю, говорит, не обидится Владислав Григорьевич, если мы с ним вместе над этой программой покумекаем.
– Не понял. – Тушинский действительно не понимал; небольшие глазки его раскрылись столь широко, как могли. Луговой глядел в них, не отводя взгляда, спокойно улыбался.
– Пора, пора, Владислав Григорьевич, менять Россию! Застоялась! Вот мы ее с вами и изменим.
– Иван Михайлович Луговой вчера назначен советником вашего нового генсека, – прокомментировал посол фон Шмальц, – полагаю, он осведомлен лучше других о его намерениях.
– А, Ганс Герхардович, – отреагировал на это Луговой, – тебя не увидел. За спинами прячешься. Как ты добрался тогда с дачи? Меня Алина изругала, что отпустил тебя в таком состоянии. Ты бы на себя посмотрел. Бурш, одно слово, бурш! Молодой Энгельс – в лучшие свои годы! Меня перепил! Алина поразилась. Ганс твой, она мне говорит, или спьяну госсекреты своей родины разболтает, или в столб врежется – и кто знает, что хуже? Столб электрический собьет, свет в поселке потухнет, скажут – капиталисты виноваты.
– Я, Иван Михайлович, выбрал третий вариант: завербовал русского шофера.
Принято говорить, что вернисаж не для того, чтобы смотреть картины, а чтобы встречаться с людьми. И здесь это подтвердилось в полной мере. Всего час назад Павел и думать не мог, что московская красавица Багратион будет обнимать его полной и гладкой рукой, а великий Бештау положит ладонь на плечо. Но еще того невероятнее было, что он стоит в группе людей, которая обсуждает последние реплики главы государства, сведения, доверенные лишь немногим. Обычно русские люди узнают о своей судьбе только тогда, когда их судьба уже бесповоротно совершилась и мнения их никто не спрашивает, – но сегодня все не так. Он только что услышал, как генеральный секретарь партии собирается улучшить жизнь в стране, которой управляет, мало того, генсек хочет в короткий срок изменить самое лицо этой страны, мало того, генсек хочет, чтобы в этом деле ему помогали не войска и милиция, как раньше, а интеллигенты. Советоваться, да! Вместе принимать решения о будущем! Да, было сказано именно так. Ведь не зря же позвонил он самому известному диссиденту. Это ведь не случайно: именно на инакомыслящих хочет он опереться в этой стране, на тех, кто мыслит инако. Надо строить новое общество с новыми героями, с иными мыслями.
Павел волновался, волновался он еще и потому, что стриженая девушка стояла совсем близко от него, и она казалась ему очень красивой.
– А если подробнее и серьезнее, Владислав Григорьевич, – сказал Луговой, но опять-таки не одному лишь экономисту Тушинскому, а сразу всем, кто был рядом, – то генеральный план действительно корреспондирует с вашими предложениями. Надо поворачиваться к цивилизованным странам. Пора.
– Выхода у вас нет, – жестко ответил Тушинский, – и не захочешь, а повернешься. Или на Запад, или в Сибирь. Или издавать Солженицына, или строить новые лагеря. Только лагерями сегодня экономику не поправить.
– Ну что ж, можно сказать и так. А можно и по-другому: и на Запад, и в Сибирь. Петр через балтийское окно хотел в Европу залезть, да застрял, узким окно оказалось; теперь надо делать дверь. И кто знает? Не в Сибири ли? Не через Тихий ли океан? Балтика мала оказалась. Мало окна, Владислав Григорьевич, – страна у нас с вами большая. Дверь нужна.
– Вот к нему обращайтесь, – и Тушинский показал на Кузина, уже изготовившего реплику и только ждавшего ее сказать.
– Вы столяр? – спросил Луговой, улыбаясь и улыбкой давая понять, что знает, кто такой Кузин, и про его идеи тоже знает.
– Дверь изготовить не фокус, – произнес автор «Прорыва в цивилизацию», – вопрос в другом: кто в эту дверь войдет. Да и пустят ли нас в эту дверь с той стороны? С чем мы в гости собрались? С колониями? С армией в три миллиона? С войсками в Афганистане? С политзаключенными?
– Было сделано много глупого, что теперь, задним числом, на мертвецов пенять. По-мужски ли это? Не причитать, а историю делать надо. Однако оглянитесь – сегодняшний день что-то решает. Вы на картины посмотрите, вы спросите художников, вы себя спросите.
– А что тут спрашивать, – зло сказал Тушинский, – конец вашей системе. Сдохла. Срок вышел – и сдохла. Врали, запрещали, тянули время – но теперь время вышло, пришла пора помирать. Казалось, износа нашим хозяевам не будет – вечные. А как хозяева один за другим перемерли, – он говорил это открыто, резко, не скрывая, что говорит о генсеках партии, действительно умиравших в прошлом году подряд один за другим, – как законопатили их в Кремлевскую стену, так и некому стало систему вранья поддерживать. Вопрос в другом: захочет новое поколение, чтобы вы его тоже дурили? Думаете, опять захочет? Думаете, тот же номер пройдет?
– Чтобы войти в семью цивилизованных народов, – сказал Кузин, – у России есть основания. История Европы и история России связаны, по сути, это одна история. Общая. Но Россия больна – семьдесят лет как длится болезнь.
– А может быть, это у нее здоровье такое?
– Здоровье? – и Тушинский еще ближе придвинулся, прямо в лицо Луговому выплевывая слова; он мастер был говорить, всегда сам увлекался, рассказывая, на его лекции набирались полные залы. – И вы еще произносите слово «здоровье»? Чье здоровье? Бабок, что по тридцатке пенсию получают? Узбекских школьников, которых гонят собирать хлопок? Алкашей, которых травят поганой водкой? Или вон Виктора Маркина – восемь лет ученый на Севере кайлом махал – вас озаботило здоровье? Вот у его жены спросите, – он прямо указательным пальцем ткнул в стриженую девушку, и Павлу стало почему-то неловко, – много внимания правительство уделило его здоровью? Вы красивую историю рассказали нам про звонок Сахарову. Да, умилительную историю рассказали. – Тушинский помолчал. – Не пересказали только ответ академика. А он сказал вашему генеральному секретарю, что третьего дня в тюрьме, не выдержав голодовки, умер Анатолий Марченко! Вы слышите?!
– Марченко умер? – лицо Бештау исказилось. Мало кто из собравшихся, людей избранных, не знал о том, что Бештау был другом Марченко.
– Умер. От голода умер.
– Палачи! – и рука Бештау сжала плечо Павла.
– Марченко не воскресить, – сказал Луговой мягко, – но надо жить дальше.
– Жить – но без вас! Жить – но без палачей! – сказал ему в лицо Тушинский. – Жить, но в таком обществе, которое раскается в преступлениях.
– Раскаяться – не проблема. Нам, русским, каяться не привыкать. Покаялся, да и спать лег. Проблема в другом, Владислав Григорьевич, – в строительстве общества. Со мной собираетесь строить или без меня, вопрос тактический. Это уж как вам благоугодно будет. Я человек служивый: позовут – к работе готов, не позовут – навязываться не стану. Только строить общество надо. Вы уж, я вас умоляю, от строительства не отказывайтесь.
– Построим, – сказал Тушинский, – не сомневайтесь. И коллегам в четвертом отделении передайте: построим.
– Да я верю! Как не поверить? – и Луговой махнул пустым рукавом в сторону произведений искусства. – Вот уже, я вижу, строительство началось!
– Если и впрямь оценить сегодняшнее событие как историческое; если внимательно посмотреть на стены, как вы советуете, – это уже Кузин подхватил, он говорил гораздо мягче, понимая, что фактически транслирует сообщение прямо в высшие сферы, – если отнестись к искусству действительно как зеркалу общества, что же мы увидим? Давайте задумаемся над этим.
VИ они обвели взглядами зал, увешанный яркими полотнами. То было новое искусство, русским обществом прежде невиданное. Время слезливых пейзажей родного края миновало. Это прежде отечественные художники тщились тронуть сердце обывателя мелодраматическими ландшафтами. Сколько их, бессмысленных произведений, имевших одну цель – заставить поверить, будто убогий край по-своему привлекателен, сколько их было намалевано за годы советской диктатуры! Хватит, насмотрелись, накушались этой дряни до рвоты. Баста. Нынче искусство стало другим – бескомпромиссным и ярким. Это были карикатуры на Ленина и партию, хари алкоголиков, пародии на советские плакаты и всякого рода агитацию и пропаганду. Художники выставляли напоказ уродство быта и мерзость жизни: они прибивали к стенам кривые сковородки и трехзубые алюминиевые вилки – позор советского общепита, они выставляли напоказ корявые табуреты и продавленные матрасы – а именно в таких условиях и жили советские люди, они клеили коллажи из унылых образцов казарменной одежды. Смесь поп-арта и концептуализма, абстрактного искусства и карикатуры – все это было лишено одного стиля и не являлось никаким направлением. Но в целом искусство рассказывало о дикой, невыносимой жизни. Пародии на советские плакаты кричали о том, что наша страна самая передовая: в ней и паралич самый прогрессивный, и проволока самая колючая, и прочее в том же духе; а с холстов смотрели уроды, исковерканные действительностью нелюди.
Зрители, идущие вдоль полотен, словно читали приговор обществу, каждая новая вещь добавляла еще один параграф в список обвинений. Даже абстрактные полотна, а были и такие, говорили о том же – о загнанной, постылой жизни без будущего: в какой же еще действительности выдумают такие грязные, унылые цвета? Лиза, та самая девушка, что прежде стояла в толпе позади Павла, повернувшись к своему спутнику, прошептала: «Боже мой, как страшна наша Россия». А тот ответил: «Но ведь затем и существует искусство, Лиза, чтобы называть вещи своими именами. Изобразив отчаяние, ты его преодолеваешь». И Лиза восхитилась: «Да, верно». Лиза и ее спутник шли вдоль работ «шестидесятника» Первачева, который изображал тоскливую русскую провинцию – бараки, алкоголиков, слякоть. Они подробно рассматривали пейзажи, и Лиза всякий раз находила какую-нибудь потрясающую ее деталь. «Ой, смотри, вот у забора какая собака бедная. Замерзла вся». Или: «Гляди, а там белье вешают. Это на таком-то ветру. Бедные». За Первачевым располагалась инсталляция Осипа Стремовского: гипсовые бюсты основоположников – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. К бюстам были подведены трубки газовых горелок, и через равные промежутки времени вожди выдыхали в зал пламя. Дальше – метафизические холсты Пинкисевича: серые и розовые квадраты на тусклом черном фоне: Пустырь № 1, Пустырь № 2 и т. д. Дальше – ранние, еще фигуративные вещи Струева: «Урок анатомии» и «Утро шизофреника». В дальнейшем Струев стал концептуалистом – писал непонятные тексты на листах фанеры, короткие, злые фразы. Были на выставке и эти работы. На огромном, грязном листе фанеры в углу было написано карандашом: «Кто из вас мыслит глобально?». Был в экспозиции представлен и зловещий опус Гузкина «Казнь пионерки» – на картине взвод фашистов вешал юную партизанку. В те годы сопротивление соцреалистической догме выработало простой и действенный прием: доводить догму до абсурда, то есть говорить то же самое, что и апологеты режима, но еще более казенным и серым языком. В результате сам язык соцреализма оказался дискредитированным – а с ним и идеология. Мастером такого рода протеста заслуженно считался Гузкин. Картина его нарочно была выполнена в манере соцреализма, то есть с фотографическими подробностями и в тусклых красках: дебильная девочка в пионерском галстуке стоит на табурете с петлей на тощей шее. Что хотел сказать художник этим произведением? Что жизнь наша серая и рисовать нас обучили тускло? Что сами мы такие же убогие? Что героизм наш – от глупости? Что кончим мы плохо, а после смерти над нами посмеются? Ах, он многое хотел сказать.
Луговой оглядел образчики творчества новых художников, изучил и зрителей, рассматривающих искусство. Он, в частности, проводил взглядом Лизу, и Кузин, смотревший, как смотрит Луговой, отметил блеск в глазах Однорукого Двурушника. Луговой оглядел весь зал, показывая, что смотрит неформально, что ему интересно, он запоминает.
– Это как прикажете называть? Авангард?
– Это второй авангард. Первый вы безуспешно прятали и запрещали. Это – второй, и его уже не спрячешь. Вот сегодняшний герой, спросите у него, согласен ли он еще тридцать лет сидеть в подполье? – и Тушинский повернулся к Струеву.
– Ты согласишься, Семен? – спросил Кузин.
Струев улыбнулся. Для него это был обычный день, немного более суетливый, но обычный, не особенный. Не праздник, не юбилей. Никто не знал, чего стоило ему упросить начальство Союза художников отдать на пару дней этот зал, сколько вечеров пришлось сидеть в приемной вальяжного первого секретаря, как надоело унижаться перед районными властями, до чего тошно собирать вещи по мастерским у своих коллег. Никто из говорящих с ним и вообразить не мог, чего стоило убедить вечно трусивших единомышленников выступить бок о бок. Он собрал их в своей мастерской, проклиная в душе их вялость и жадность. «Это очередная провокация!» – кричал Пинкисевич, нервно глотая водку. Редкий семит, он проделывал это не хуже русского сантехника. Эдик Пинкисевич, православный еврей, крестившийся в зрелые лета и потому твердо блюдущий обряд, ходил по Москве в рваном лагерном ватнике и треухе времен Беломорканала и, хотя в лагерях никогда не сиживал, производил впечатление политзаключенного. Он писал на небольших холстах розовые квадраты и серые треугольники, говорил, что продолжает дело Малевича, и постоянно опасался ареста. Вот и третьего дня он в короткое время налился водкой и принялся стращать всех грядущей «чисткой». «Выявить хотят, собрать в одном месте и разом прихлопнуть. Вспомните потом слова Пинкисевича, да поздно будет». – «Семен, – спрашивал весьма осмотрительный Гриша Гузкин, – а ты и впрямь не видишь за этим ловушки?» – «Семен, – говорил видавший виды Первачев, – в пятьдесят шестом я купился на такую же приманку. Мол, давайте все сюда». Струев сдержанно, стараясь не повышать голоса, зная, что и без того товарищи за глаза называют его «кукловодом» и «диктатором», перемежая речь комплиментами, сказал, что бояться нечего. В сущности, говорил он, решение о либерализации принято наверху и от них ждут встречного шага. Теперь от них, и только от них зависит, кто возглавит движение, кто оседлает идущую волну. Хотелось бы, взывал он к тщеславию товарищей, чтобы это были такие люди, как ты, Эдик, как ты, Гриша. Вы и без того признанные мастера, первые в этой стране, вам и возглавить движение. «Если решение принято наверху, – бушевал пьяный Пинкисевич, – так пусть, сволочи, мастерскую дают приличную. Я уже устал ведрами говно выносить после протечек». «Нет, в самом деле, – говорил Гузкин, – в словах Эдика есть логика. Если существует определенный приказ, то не может не существовать и некая бюджетная основа. Я отчетливо понимаю, что наши имена хотят использовать. Было бы только логично, если бы нам в таком случае предложили определенную зарплату – в известном смысле это стало бы формой легализации». Струев отвечал, что все, разумеется, зыбко: никакого формального приказа нет и быть не может; речь идет об инициативе, о смелом рывке. Да, успокаивал он Пинкисевича, страховка есть, мнение наверху подготовлено, но не хочешь же ты, чтобы тебе стелили красный ковер и ленточку перед входом резали? «А почему бы и нет? – кричал в этом месте беседы Захар Первачев; он тоже напился. – Почему бы и ковер не постелить? Много у них первачевых? Или пинкисевичей? Что они нас по подвалам мариновали тридцать лет – это, видите ли, можно. Что в лагерях гноили – это в порядке вещей! А ковер, выходит, нельзя стелить? Придется, придется постелить!» И опять, выбирая слова, сдержанно говорил Струев о том, что придет время и Захару Первачеву не то что ковер, а памятник в Охотном Ряду поставят, и хоронить его выйдет весь город. Он не сказал Первачеву, что картинки последнего – с мятой газетой «Правда» и бутылками водки на фоне кривеньких колоколен – никому больше не нужны. Он не сказал, что, производя столько лет подряд одинаковую халтуру, надо Бога благодарить, если тебя еще помнят и зовут – для комплекта – на выставки. Он вместо этого сказал, что хоронить Первачева выйдет весь город. А когда тебя поднесут к Лавре, говорил Струев, цитируя жену Достоевского, то монахи выйдут навстречу с хоругвью.