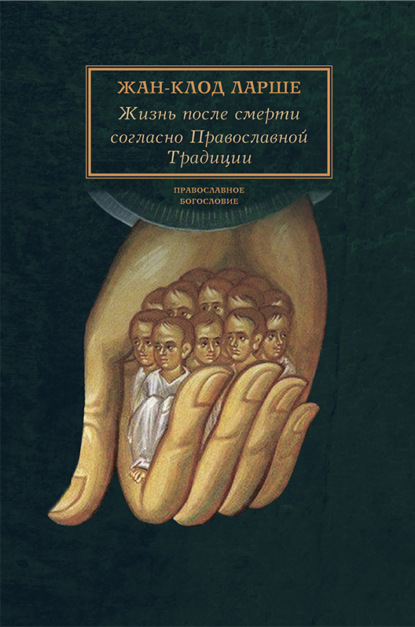
Полная версия
Жизнь после смерти согласно Православной Традиции

Жан-Клод Ларше
Жизнь после смерти согласно Православной Традиции
© Ж.-Кл. Ларше, 2001
© Сретенский монастырь, оформление, 2017
Предисловие
Смерть – это великая тайна. Как отмечали многие философы, она является единственным определенным фактом нашего будущего и вместе с тем остается одним из самых неопределенных явлений, если говорить о природе смерти и ее последствиях.
Священное Писание подчеркивает непредсказуемый характер смерти (не знаете ни дня, ни часа – Мф. 25:13), но при этом дает нам сведения о ее истоках (см.: Рим. 5:12). Оно возвещает нам будущее воскресение тел и вечную жизнь грядущего Царствия, однако не дает практически никаких указаний о том периоде времени, что отделяет смерть каждого человека от Страшного и Всеобщего Суда и воскресения, которые должны произойти в конце времен. Кроме того, примечательно, что в рассказах о воскрешениях сына Наинской вдовы (см.: Лк. 7:11–16) и Лазаря (см.: Ин. 11:1–44) воскресшие не говорят ничего о том, что они пережили в период между смертью и возвращением к жизни. К тому же мы видим, что Бог не позволил умершим открывать живым их состояние даже с полезной для них целью – предупредить их; Сам Христос говорит в одной притче: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их (Лк. 16:29). Тем не менее эти два обстоятельства не могут быть истолкованы как принципиальный Божественный запрет говорить людям о загробном состоянии. В первом случае молчание Священного Писания объясняется тем, что повествование сосредоточено на главном в этих двух событиях – на том, что Христос воскрешает двух людей, предвозвещая этим будущее воскресение и одновременно свидетельствуя о Своей способности совершить его. Во втором случае неспособность умерших поведать о своей участи объясняется у святых отцов[1] следующим образом: этими знаниями мог бы воспользоваться диавол, чтобы вызывать ложные видения и приводить ложные свидетельства; есть опасность, что по его подстрекательству или в силу психических расстройств живые могут быть введены в заблуждение мертвыми, вернувшимися к жизни, и для человека в столь неоднозначной ситуации это скорее обернется смущением и обманом, чем принесет какую-либо пользу[2]. Слова Христа, вложенные в уста Авраама: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, – являются не столько запретом интересоваться посмертным состоянием человека, сколько побуждением к внимательному исследованию Священного Писания[3], видений и слов пророков, свидетельств и поучений святых, которые, в их совокупности, содержат необходимые указания на этот предмет.
Тщательное исследование и надлежащая экзегеза множества фрагментов Священного Писания, в частности причти о богаче и Лазаре (см.: Лк. 16:19–31), позволяют собрать существенные элементы учения[4]. «Изречения» и жития святых отцов (а святые отцы в широком смысле могут быть приравнены к пророкам, о которых говорит Христос) содержат немалое количество повествований, видений и откровений, касающихся посмертной участи души и ее состояния. Многие святые отцы дают свои толкования к ранее приведенным сведениям и уточняют их. Наконец, погребальные обряды Церкви в своей последовательности (в частности, их совершение на первый, третий, девятый и сороковой дни), в своей внешней форме и в текстах молитв (а все они составлены вдохновленными свыше святыми отцами) показывают нам, как Церковь воспринимает приближение смерти, момент ее наступления и ее последствия, как она относится к телам усопших и как она рассматривает участь их душ.
Разумеется, эти сведения Предания разрознены и часто немногословны. Тем не менее, если их собрать, сопоставить и свести воедино, они позволяют довольно точно определить, как христианство представляет себе жизнь после смерти[5].
Однако раскрыть это представление во всей его полноте и точности – не означает ли пренебречь обязанностью не многословить, которой, казалось бы, и учит нас Писание, столь скупое на такие подробности?
У этой немногословности есть определенная педагогическая цель: она учит нас верить, не увидев, она учит нас тому, что важнее приготовиться к смерти и к потусторонней жизни, нежели познать ее природу, тем более что в нашем нынешнем бытии нам трудно представить себе состояние, столь от него отличающееся[6]. Между тем святые отцы, по вдохновению и повелению Духа Святого, сочли необходимым передать и истолковать некоторые откровения о мире ином, исходя из педагогических соображений, но другого рода: давать знамения тем, кто в них нуждаются и кому они полезны. Следует распознавать время (см.: Лк. 12:56) и нужды людей и с ними согласовывать учение Церкви. Это не значит, что его основы меняются, но оно позволяет выражать непреложную истину в соответствии с требованиями конкретных обстоятельств, представляя эту истину более или менее четко или подчеркивая тот или иной ее аспект.
Люди всегда желали узнать, что находится по ту сторону смерти, и разные философские течения и религии всегда в той или иной степени отвечали на этот вопрос. Относительное молчание христианства тоже в своем роде учительно насыщенно: оно требует от человека глубочайшей и чистейшей веры, которая может обойтись без всяких знамений. Но тем, кому требовались знамения (см.: Мф. 12:39), они часто подавались для пробуждения или укрепления веры.
Огромный спрос, возникший в наши дни на книги, повествующие о посмертном опыте и претендующие на извлечение из этого опыта определенного учения (книги таких авторов, как доктор Р. Моуди или Е. Кюблер-Росс (E. Kübler-Ross)), является не столько выражением нездорового любопытства, сколько реальным и оправданным беспокойством по поводу смерти и следующего за ней состояния.
Должно ли христианство отказаться от монополии в учениии о смерти и обстоятельствах потустороннего мира [и предоставить слово] неискушенным авторам, сектам или нехристианским религиям, следствием чего уже становится широкое распространение фантастических верований на эту тему? Должно ли христианство держать под спудом без веской на то причины[7] все богатое наследие, накопленное им по этой проблеме за долгое время?
Тем не менее [некоторые] христианские богословы, закомплексованные и робеющие перед современной научностью и материализмом, обошли неловким молчанием этот вопрос, как и многие другие. Желая произвести приятное впечатление на агностиков, они проповедуют «демифологизацию», которая должна якобы очистить веру, а в действительности чаще всего делает ее абстрактной и пустой. Все это только отдаляет людей от храмов и способствует процветанию сект, не стесняющихся говорить повсюду о своих верованиях. Ибо, хотим мы того или нет, ответы, которые религии давали на вопрос о смерти, всегда играли важную роль в мотивации религиозной веры; и не только потому, что в религии люди ищут уверенность и утешение перед лицом перспективы смерти[8], но и потому, что смерть является, вне всякого сомнения, главным вопросом человеческой жизни и от ответа на этот вопрос зависит как раз смысл человеческого существования.
Опираясь на учение христианского Предания, христианские авторы (как, например, отец Серафим (Роуз))[9] дали ответ на распространение ложных верований о смерти и о потустороннем мире; они добились широкого успеха – в частности, в США – и указали путь, по которому должны следовать пастырское окормление и катехизация.
В этой книге мы представим учение Православной Церкви. По некоторым пунктам оно значительно отличается от католического и протестантского. Расхождения между восточной и западной традициями существуют еще с V века, однако резко они проявились в XII столетии, когда Запад, по выражению историка Ж. Ле Гоффа, «придумал чистилище»[10]. Между тем в своих истоках латинская традиция полностью согласуется с восточной. Итак, несмотря на то что чаще всего мы будем ссылаться на греческих святых отцов, также мы будем цитировать совпадающие и дополняющие свидетельства и наставления древних латинских отцов и житий святых.
Таким образом мы надеемся лучше донести до православных христиан учение их собственного Предания, часто разрозненное и потому плохо известное[11], а также открыть католическим и протестантским читателям учение, им не известное или давно переставшее быть составляющей их веры, но все же остающееся частью богатого наследия единой древней христианской традиции, которая, в принципе, для всех является или должна являться единой.
Перед тем как приступить к изложению, нам кажется необходимым сделать еще одно уточнение: относительно потустороннего мира святые отцы часто выражаются образно. Причина этого в том, что, как было уже отмечено, мы имеем дело с обстоятельствами, опыт которых нам недоступен в этой жизни, и что именно поэтому нам невозможно показать все непосредственно. Согласно принципам использования символизма, невидимые и духовные реалии часто представлены через реалии видимые и материальные. Указания места и особенно времени не должны быть понимаемы буквально, поскольку речь идет о состояниях или об условиях бытия, не поддающихся законам пространства и времени, а точнее, принадлежащих пространственности и временности, отличным от тех, которые определяют наше восприятие в нашей земной жизни; это обстоятельство позволяет соблюсти еще один принцип сакрального символизма – а именно отношения подобия между символом и тем, что он символизирует.
Об этом уточнении следует помнить, в частности, когда мы будем говорить о рае и аде, или Царстве Небесном и преисподней, обозначаемых как некие места, или когда опыт пребывания в этих местах будет описан в терминах физического наслаждения или мучения, или же когда различные этапы загробной жизни будут представлены как сроки в определенное количество дней.
Глава I
Смерть: ее происхождение и духовный смысл
1. Первая причина смерти – прародительский грех
Святые отцы единодушны в том, что смерть не была сотворена Богом[12]. Об этом сказано еще в Книге Премудрости: Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле (Прем. 1:13–14). У смерти нет положительной реальности: она существует только в силу утраты жизни; она входит в число тех проявлений зла, которые имеют место только в силу утраты или отсутствия блага, ведь Бог сотворил мир полностью добрым и дал человеку жизнь как благо.
И все-таки был ли человек бессмертным? Многие святые отцы отвечают на этот вопрос положительно[13] и считают, что смерть была совершенно чужда человеческой природе, однако другие не утверждают этого с полной уверенностью[14]. Последние, опираясь на слова Книги Бытия (Быт. 2:7), согласно которым создал Господь Бог человека из праха земного, и заботясь о том, чтобы сохранить различение тварного и нетварного, считают, что человеческое тело в своем изначальном виде и по своей собственной природе было составом неустойчивым, тленным и смертным. «По своей природе человек смертен, поскольку он взят из небытия» [15], – пишет святитель Афанасий Александрийский, который также утверждает, что «изначально люди имели тленную природу»[16]. Некоторые отцы предпочитают говорить об этом более подробно, утверждая, что человек был сотворен «для нетления»[17] и «для бессмертия»[18] и что его природе свойственно было стремиться причаствовать Божественному бессмертию[19]. Они также говорят об «обещанных»[20] нетлении и бессмертии, уточняя, что нетление и бессмертие не были усвоены сразу окончательно, как если бы они были свойствами, присущими самой человеческой природе.
Святые отцы согласны друг с другом в том, что только благодать Божия поддерживала нетление и бессмертие первозданного человека. Книга Бытия говорит, что тотчас после сотворения человека из праха земного Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою (Быт. 2:7): отцы считали, что это дыхание есть душа, но также и Божественный Дух[21]. Тело и душа обладали сверхъестественными свойствами благодаря тому, что они были пронизаны Божественными энергиями. Так, святой Григорий Палама замечает, что Божественная благодать «дополняла многочисленными благодеяниями недостатки нашей природы»[22]. И благодаря этой благодати тело пребывало в состоянии нетления и бессмертия[23]. Святой Афанасий говорит о человеке, живущем «бессмертной жизнью», как «обладающем дарами Божиими и собственной силой, исходящей от Слова Отчего»[24]; и он отмечает, что «люди имели тленную природу, но» что «по благодати причастия к Слову» они могли «избежать этого состояния их природы»[25] и что «из-за живущего в них Слова тление природы не прикасалось к ним»[26].
В то же время, поскольку человек был сотворен свободным, только от его воли зависело сохранить или не сохранить эту благодать и, таким образом, остаться в нетлении и бессмертии, которые благодать ему предоставляла, или, наоборот, отвергнув ее, утратить их[27]. Таким образом, когда святые отцы утверждают, что человек был сотворен нетленным и бессмертным, они не имеют в виду, что он не мог познать тление или смерть, но что по благодати и по своему свободному выбору он обладал возможностью не истлевать и не умирать. Для того чтобы удержаться в нетлении и бессмертии и окончательно усвоить их себе, человек должен был сохранить дарованную ему Богом благодать и оставаться соединенным с Ним через полученную от Бога заповедь (см.: Быт. 2:16–17[28])[29]. Так, святой Григорий Палама пишет: «Если бы человек [изначально] соблюл бы заповедь, этим укрепляясь [в дарованной ему благодати], тогда он мог бы радоваться от более совершенного соединения с Богом и становиться совечным Богу, облеченным в бессмертие»[30].
Итак, как видно, святые отцы часто утверждают, что от сотворения до грехопадения человек не был, собственно говоря, ни смертным, ни бессмертным. Святой Феофил Антиохийский пишет: «Но кто-нибудь спросит нас: смертным ли по природе сотворен человек? Нет. Значит – бессмертным? Не скажем и этого. Но скажет кто-нибудь: итак, он сотворен ни тем ни другим? И этого не скажем. Он сотворен по природе не смертным и не бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом; если же, наоборот, сотворил бы его смертным, то Сам оказался бы виновником его смерти. Итак, Он сотворил его не смертным и не бессмертным, но, как сказали выше, способным к тому и другому, чтобы, если устремится он к тому, что ведет к бессмертию, исполняя заповедь Божию, получил от Него в награду за это бессмертие и сделался бы Богом; если же уклонится к делам смерти, не повинуясь Богу, сам был бы виновником своей смерти. Ибо Бог создал человека свободным и самовластным»[31]. Святой Афанасий Александрийский мыслит в этом же направлении: «Зная, что свободная воля человека могла уклониться в одну или другую сторону, Бог заранее предусмотрел и законом в определенном месте укрепил дарованную Им благодать… Таким образом, если бы [Адам и Ева] сохранили благодать и оставались в добродетели, то они получили бы обещанное им бессмертие… Но если бы они преступили этот закон, то узнали бы, что их ожидает в смерти тление природы, что они не будут больше жить в раю, но будут изгнаны из него, чтобы умереть и пребывать в смерти и тлении»[32]. Святой Григорий Палама даже в Божественной заповеди видит средство, данное Богом человеку, чтобы тот избегал тления и смерти и одновременно сохранял свою свободу[33]. Он подчеркивает, что тление и нетление, смерть и бессмертие зависели от человека, поскольку Бог, сотворив человека свободным[34], не мог препятствовать ему выбирать то, что ему делать и кем ему становиться[35].
Таким образом, согласно святым отцам, происхождение и причину смерти нужно искать только в личной воле человека, в сделанном им неправильном выборе, в грехе, который он совершил в раю[36]. Их учение продолжает учение апостола Павла: одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть (Рим. 5:12; ср.: 1 Кор. 15:21). Святой Феофил Антиохийский замечает: «Первому созданию непослушание стоило изгнания из рая… в своем непослушании человек… в итоге впал во власть смерти»[37]. То же самое утверждает преподобный Максим Исповедник: «…злоупотребление своей свободой выбора ввело в Адама… смертность»[38]. Святой Григорий Палама на вопрос: «Откуда у нас слабости, болезни и другое зло, которое ведет к смерти?» – отвечает: «Вследствие нашего бывшего в начале преслушания Богу; вследствие преступления данной нам Богом заповеди; вследствие нашего прародительского греха, бывшего в раю Божием. Таким образом, и болезни, и немощи, и многовидное бремя искушений происходит от греха, потому что вследствие его мы оделись в кожаные ризы – в сие болезненное и смертное и подверженное многим печалям тело – и перешли в этот подвластный времени и смерти мир, и осуждены жить многострастной и весьма несчастной жизнью. Итак, как бы болезнью является путь, короткий и тяжкий, на который грех ввел человеческий род, и завершительным пунктом сего пути и концом путешествия является смерть» [39].
Таким образом, последовав совету лукавого стать как боги (Быт. 3:5), но богами вне Бога, Адам и Ева сами лишили себя благодати и с этого момента утратили качества, которыми обладали в силу этой благодати и которые сообщали им в каком-то смысле сверхъестественное состояние[40]. Святой Афанасий пишет, что «преступление заповеди привело их обратно к их природе»[41], то есть к праху земному, из которого они были сотворены[42] (см.: Быт. 2:7), как сказал Бог Адаму: возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты земля и в землю возвратишься (ср.: Быт. 3:19).
Итак, по греческим святым отцам, зло, которому стали подвержены Адам и Ева вследствие греха, не является Божественным наказанием, как о том пишут некоторые латинские святые отцы. Это зло скорее логически вписывается в концепцию добровольного – со стороны людей – лишения себя общения с Богом, которое делало их причастными Его Божественным свойствам. Отделившись от Блага, они распахнули человеческую природу для всяческого зла[43], а точнее, отклоняясь от Жизни, они впустили в себя смерть. Святой Григорий Нисский пишет: «…как только было совершено это отвержение блага, за ним последовало многочисленное зло: отклонение от жизни породило смерть; лишение света породило тьму; из-за недостатка добродетели появилось зло. И таким образом все виды добра были заменены постепенно рядом противоположных зол»[44]. Тот же святитель замечает: «…обманом смешав порок со свободой выбора человека, враг спровоцировал в какой-то мере затмение и помрачение Божественного блага. И при лишении блага то, что противоположно благу, непременно занимает его место. А жизни противостоит смерть»[45]. Святой Василий Великий тоже отмечает: «Смерть является необходимым следствием греха. По мере отдаления от Бога, Который и есть жизнь, мы приближаемся к смерти; смерть – это лишение жизни: отдаляясь от Бога, Адам подвергся смерти»[46]. А преподобный Максим Исповедник говорит: «…не захотев питаться [от Слова жизни], первый человек неминуемо удалился от Божественной жизни, и, напротив, другая ему досталась – та, что рождает смерть»[47].
В первую очередь смерть поразила душу человека, которая стала подверженной страданиям, тленной и погибающей, так как отделилась от Бога и лишилась Божественной жизни[48]. Затем через душу смерть перешла на тело. Как отмечает святой Афанасий, эта двойная смерть – духовная и телесная – обозначена настойчивым повторением этого слова во фразе, с которой в Книге Бытия Бог обращается к Адаму и Еве, предупреждая их: в день, в который вы вкусите [от дерева познания добра и зла] смертью умрете (ср.: Быт. 2:17)[49]. Говоря о том же, святой Григорий Палама уточняет: «Наступившая вследствие грехопадения смерть не только растлевает душу, но и удручает тело страстями и муками, делает его тленным и в итоге подвергает его смерти. Итак, после внутренней смерти человека через преступление земной Адам слышит: ты земля и в землю возвратишься (Быт. 3:19)»[50].
Согласно святым отцам, которые следуют в свою очередь Писанию, Адам и Ева передали всем поколениям потомков все недуги, которые поразили их природу вследствие грехопадения, и первый такой недуг – это смертность[51]. Адам был прототипом, основой и корнем человеческой природы и изначально содержал всю ее в себе[52]. Некоторые святые отцы отмечают, что эта передача [последствий прародительского греха] происходит биологическим путем, во время зачатия[53], и что она, таким образом, неминуема[54]. С тех пор все люди рождаются страстными, тленными и смертными, и никто не может избежать этой участи, которую преподобный Максим Исповедник называет «законом греха»[55], поскольку эта участь – последствие греха, или еще «законом природы»[56], поскольку она становится присущим свойством всей падшей природы. Здесь уместно вспомнить учение апостола Павла: одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех человеков (Рим. 5:12).
2. Духовная двойственность смерти
А. Положительный аспект смерти
Если духовная смерть имеет только отрицательные аспекты, то в смерти физической мы можем увидеть несколько преимуществ по сравнению с тем состоянием, которое пришло вслед за грехопадением прародителей. Святой Иоанн Златоуст пишет следующее: «…то, что смерть была введена уже здесь, на земле, не мешает Богу обратить ее нам на пользу»[57]. Он видит в смерти «больше милость, чем наказание»[58].
Если бы человек познал духовную смерть и не познал бы смерть своего тела, то из этого проистекли бы многие нежелательные для него последствия.
Во-первых, он смог бы приспособиться к такому положению вещей и постоянно жить в беспечности, в то время как перспектива смерти и незнания времени своего конца могут привести его к признанию ограниченности этой жизни и потому – к подготовке для жизни будущей, могут развить в нем чувство духовной ущербности и покаяния.
Во-вторых, его бессмертие могло бы породить в нем чувство гордости и потому казаться подтверждением ложных обещаний искусителя: будете как боги (Быт. 3:5), в то время как необходимость возвратиться в землю способствует осознанию им своей ограниченности как существа тварного, своей неизбежной слабости, своей ничтожности как существа, лишенного Божественной благодати; таким образом, телесная смертность ведет его к смирению[59].
В-третьих, без перспективы смерти, как отмечает святой Иоанн Златоуст, «люди были бы более привязанными к телу и стали бы намного более плотскими и более грубыми»[60].
В-четвертых, без смерти падшее состояние, являющееся следствием прародительского греха, было бы вечным. Святой Василий Великий пишет, что Бог «не воспрепятствовал нашему разделению [на душу и тело в смерти], чтобы наши слабости и недостатки не были сохранены благодаря нашей вечности»[61].
Это относится и к телесным недугам. Святой Иоанн Златоуст замечает: «…если бы тело должно было всегда оставаться в мучительном состоянии, в котором оно оказалось в этой жизни, то именно тогда нужно было бы плакать»[62]. Таким образом, нужно хорошо осознавать, что «смерть уничтожает не только тело, но и тленность тела» и что в положительном смысле смерть означает «навсегда уничтоженную тленность»[63]. Допуская смерть, Господь, таким образом, промыслительно подготавливает будущее восстановление – через Христа – райского состояния и даже устанавливает во Христе состояние еще более высокое, в котором человек станет окончательно нетленным и бессмертным[64], имея в виду, что семя должно умереть, чтобы дать жизнь новому растению (см.: Ин. 12:24; 1 Кор. 15:35–44).
Но в еще большей степени это касается недугов духовных. Некоторые святые отцы утверждают, что смерть не позволяет «злу стать бессмертным»[65]. Смерть умерщвляет в том числе и грех. Святой Иоанн Златоуст подчеркивает парадокс: дитя убивает своего собственного отца, поскольку именно грех породил смерть[66]. Святой Максим Исповедник отмечает, что появление смерти стало промыслительным образом для падшего человека неким средством освобождения и, что парадоксально, способствовало его сохранению, поскольку она позволила, «чтобы сила души не сохранялась навечно бессмертной у стремящегося к противоестественному, что было бы не только крайним злом и очевидным отпадением от истинного бытия самого человека, но и явным отрицанием Божественной благости»[67]. У него же сказано, что Бог допустил появление смерти, поскольку Он «посчитал нехорошим, чтобы человек, чья свободная воля обратилась к злу, стал бы бессмертным»[68].
Обобщая предыдущие соображения, преподобный Максим пишет: «…я думаю, что конец нынешней сей жизни и смертью-то называть несправедливо, но – избавлением от смерти и прекращением смятения, отъятием браней, окончанием смешения, отступлением тьмы, отдохновением от трудов, затиханием неясного шума [житейского], утишением кипения [помыслов], покровением срамоты, удалением от страстей и уничтожением греха и, вкратце сказать, – ограничением всех зол»[69].


