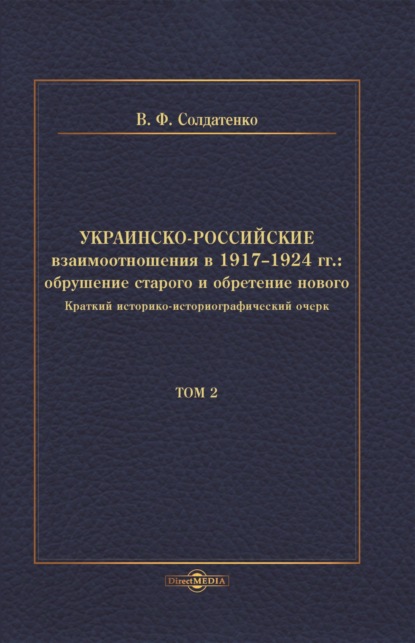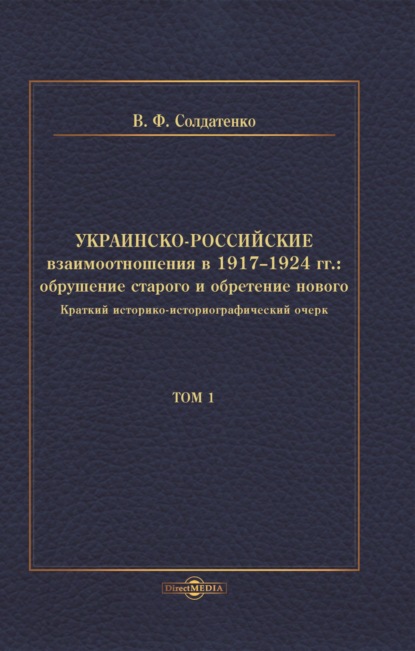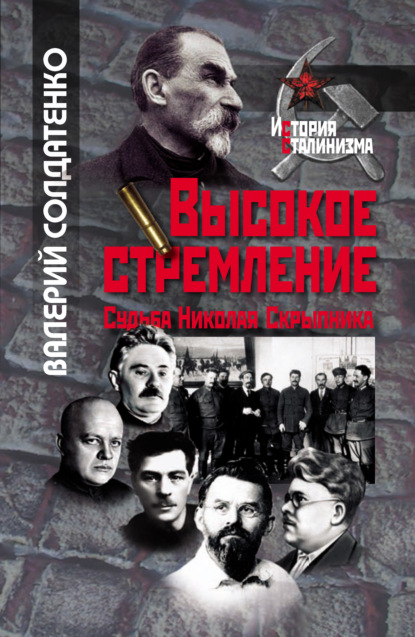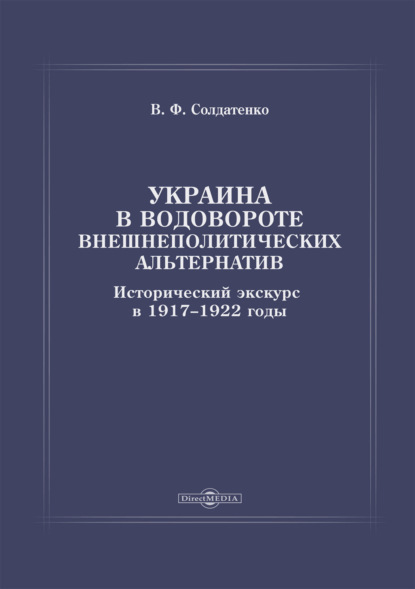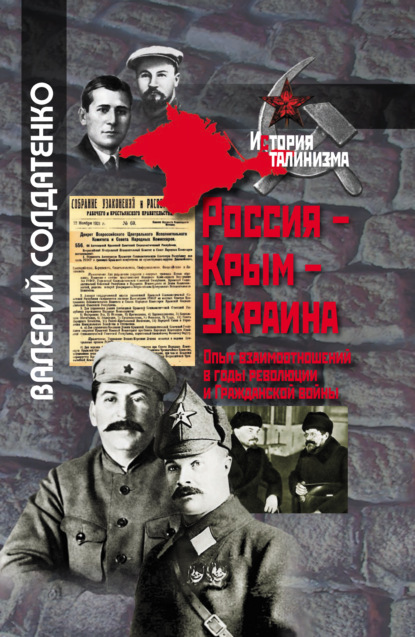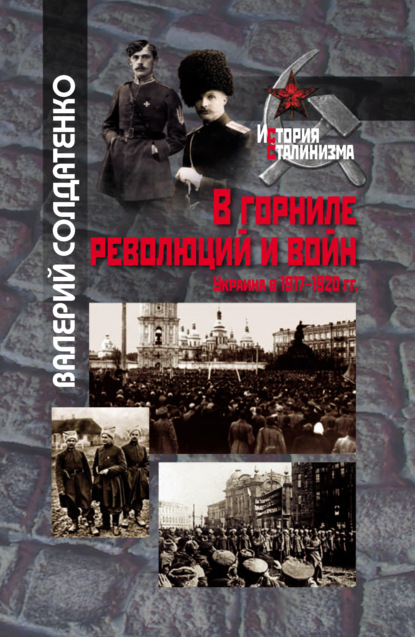
Полная версия
В горниле революций и войн: Украина в 1917-1920 гг. историко-историографические эссе

Валерий Солдатенко
В горниле революций и войн: Украина в 1917–1920 гг.: историко-историографические эссе

Издание осуществлено при финансовой поддержке Еврейского музея и Центра толерантности




© Солдатенко В. Ф., 2018
© Политическая энциклопедия, 2018

Солдатенко Валерий Фёдорович – родился 13 апреля 1946 г. в г. Селидово, Донецкой обл. (Украина).
Окончил исторический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.
Член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.
Лауреат премии НАН Украины им. Н. Костомарова и международной премии им. В. Винниченко.
Сфера научных интересов – история общественно-политического, революционного, национально-освободительного движений ХХ века.
Важное место в исследованиях уделяется выяснению различных аспектов исторической и национальной памяти, генеалогии украинской идеи, опыту государственного строительства, соборничества, международной и военной политики, разработке проблем историографии и методологии науки, современного украиноведения, политологии. Автор около 800 публикаций, 30 из которых – индивидуальные монографии.
В их числе: «Украинская революция: концепция и историография» (в 2 т. К., 1997, 1999);
«Украинская революция. Исторический очерк» (К., 1999);
«Несломленный: жизнь и смерть Николая Скрыпника» (К., 2002);
«Георгий Пятаков: мгновения неспокойной судьбы» (К., 2003);
«Три Голгофы: политическая судьба Владимира Винниченко» (К., 2005);
«В поисках социальной и национальной гармонии. (Эскизы к истории украинского коммунизма)» (К., 2006);
«Винниченко и Петлюра: политические портреты революционной эпохи» (К., 2007);
«Украина в революционную эпоху: Исторические эссе-хроники» (в 4 т. Годы 1917–1920) (Харьков; Киев, 2008–2010);
«Проект “Украина”. Личности» (К., 2011);
«Революционная эпоха в Украине (1917–1920 гг.): логика постижения, исторические личности, ключевые эпизоды» (1-е и 2-е изд. К., 2011, 2012);
«Украина. Год 1917» (К., 2012);
«Гражданская война в Украине. 1917–1920 гг.» (М., 2012);
«Демиурги революции. Очерк партийной истории Украины 1917–1920 гг.» (К., 2017);
«Георгий Пятаков: оппонент Ленина, соперник Сталина» (М., 2017).
Введение
О современных историографических вызовах
Столетие революционных событий 1917 г. ознаменовалось естественным всплеском юбилейной идеологической активности, умножением научных исследований и публикаций.
На самом высоком государственном уровне в России и Украине принимались соответствующие решения, объявлявшие 2017 г. годом Российской и Украинской революций, осуществлялись массовые политические, научные, пропагандистско-просвещенческие мероприятия. Ученые самых различных отраслей знания, прежде всего, конечно, гуманитарного, расценили ситуацию как дополнительный импульс для сосредоточения внимания на новых попытках воссоздания очень непростой страницы исторического опыта, его современных истолкованиях и оценках с дистанции, объективно предполагающей больший, по сравнению с предыдущими годами и десятилетиями, ожиданиями и надеждами на глубину, реалистичность, аргументированность предпринятых усилий, то есть – приближающуюся к истине достоверность.
Вполне оправданно многие акции – научные ассамблеи, конференции, симпозиумы, «научные столы», чтения и т. п. выдвигали в качестве одной из основных задач подведение итогов изучения общественных феноменов, оказавших громадное воздействие на дальнейший ход истории.
Безусловно, ученым, историографам еще предстоит немалый труд в надлежащей профессиональной квалификации множества публикаций, буквально наводнивших книжные полки, интернет в 2017 г. Следует ожидать, что и в последующие три-пять лет к проблеме революций и Гражданской войны будут обращаться многие и многие исследователи, а круг книг, брошюр, статей, несомненно, существенно увеличится.
Вместе с тем, представляется возможным, в известном смысле даже необходимым, отреагировать на две тенденции, проявившие себя в последних публикациях российских и украинских историков достаточно рельефно, даже можно сказать – претенциозно. Исходя из прямо противоположных, полярных позиций, обе тенденции едины в одном – абсолютной несовместимости, по существу, в праве на существование точки зрения своих оппонентов – собратьев по историческому цеху.
В самом общем виде концепция Великой российской революции в сегодняшней интерпретации исключает в рамках 1917–1922 гг. возможность и реальную объективность национальной революции, в первую очередь – Украинской революции. Сторонники же концепции национально-демократической революции 1917–1921 гг. в Украине доводят трактовку ее сущности до такой степени самоценности и самодостаточности, что исчезает связь, взаимовлияние, взаимозависимость региональных процессов от событий в центре, главным образом – в столицах России; особенности борьбы за решение национального вопроса, возрождение нации и собственной государственности абсолютизируются настолько, что под сомнение ставятся социальные слагаемые (особенно после Октября 1917 г.) комплексного революционного потока в регионе, трансформирующиеся в троекратные кампании российских агрессий, поддержанные изнутри «пятой колонной» русифицированного пролетариата, которому были чужды украинские интересы; отрицается факт Гражданской войны, а западные военные интервенции преподносятся как помощь силам Украинской революции.
Первая точка зрения наиболее полно и аргументированно воплощена в юбилейном двухтомнике «Российская революция 1917 года: власть, общество, культура»[1], созданного сотрудниками Института российской истории Российской академии наук, достаточно обстоятельно представлялась на ряде международных научных конференций 2017 г., в частности: «Революция 1917 года и ее место в истории ХХ века» (Москва, 27–28 сентября); «Великая российская революция 1917. 100 лет изучения» (Москва, 9-11 октября 2017 г.).
Вторая точка зрения отражена в общем виде в двухтомнике «Очерки истории Украинской революции 1917–1921 годов» [2], подготовленном в Институте истории Украины Национальной академии наук Украины, и также популяризировалась на ряде научных собраний, приуроченных к столетию революционных событий, в частности, на Международной научной конференции «Революция, государственность, нация: Украина на пути самоутверждения (19171921 гг.)» (Киев, 1–2 июня 2017 г.); круглом столе «Государственная самостоятельность Украины: добытая и утраченная» (Киев, 23 января 2018 г.).
Хотя параллельно положения, оценки, выводы по исследованию революций публиковались в других монографиях, сборниках, научной периодике, вполне оправданным будет сосредоточиться прежде всего на двух упомянутых обобщающих академических двухтомниках, вобравших в себя новейшие подходы и достижения ученых обеих стран, конечно, учитывая, что речь в них идет о доминирующих в данный момент точках зрения, хотя существуют и другие подходы, исторические версии восприятия и объяснения изучаемых феноменов.
В российском труде автор обращения «К читателю» директор Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор Ю. А. Петров нашел нужным отметить, «что в случае с “национальным” ракурсом революции до сих пор остро стоит вопрос о том, являлись ли революционные события на Украине, в Закавказье, Прибалтике и т. д. частью общероссийской революции, или их следует рассматривать как особые “национальные” революции. Историки большинства постсоветских стран склонны их “национализировать”, отрывая от общеимперского контекста. Напротив, российские ученые изучают революционные события на всем пространстве бывшей империи как важнейший фактор складывания новой советской государственности»[3].
В приведенной цитате в словосочетании «“национальные” революции» первое слово заключено в кавычки, согласно контексту, как проявление явного сомнения по отношению к явлению, считающемуся в Украине несомненной реалией.
Гораздо большая степень несогласия с украинскими коллегами демонстрируется в специальном сюжете, автором которого является доктор исторических наук В. П. Булдаков. Уже само название структурного подразделения – «Украинский синдром»[4] говорит само за себя. Здесь, как бы невзначай упомянув один раз о «будущей украинской революции»[5] без применения кавычек, при переходе к анализу совершавшихся событий автор неизменно пользуется означенным знаком орфографии[6], как, впрочем, и в отношении других процессов. Небольшой по объему сюжет[7] пестрит терминами «национализация», «украинизация», «сепаратизм», «буржуазные националисты», «революционный национализм», «национальный большевизм», «идейные» украинцы и т. п.
Автор достаточно упрощенно определяет причины активизации национально-освободительного фактора в Украине, связывая их, главным образом, с узко прагматичными интересами отдельных слоев населения: «В сущности, украинский “революционный национализм” оказался воспроизведением ситуации времен Богдана Хмельницкого: истоки конфликта таились в стремлении формирующейся этноэлиты обрести бо льшую самостоятельность, используя в т. ч. и внешнюю конъюнктуру; низы стремились уничтожить препятствия для свободного хозяйствования прежде всего в лице ино-этничных элементов; разгул этнофобских страстей оказался связан с действиями вооруженных маргиналов. Уже один лишь тот факт, что украинское движение в 1917 г. наиболее активно проявило себя именно в армии, причем его опорными символами стали имена прежних гетманов, указывает на несомненное сходство “украинской революции” с событиями середины XVII в.»[8].
При этом В. П. Булдаков явно стремится приуменьшить действительный размах украинского движения, степень организованности его руководящих сил, важность, серьезность сформированных целей, выдвинутых в качестве требований Временному правительству: «Ситуация стала обостряться вовсе не образованием Украинской Центральной рады, составленной по привычному для того времени “революционно-соборному” принципу (входили культурно-просветительские, самоуправленческие, профессионально-корпоративные, национальные, политические организации), а с возобладанием в ее руководстве украинских социал-демократов и пополнением ее состава представителями крестьян и особенно солдат. Центральная рада рассчитывала всего лишь на признание Временным правительством права украинского народа на широкую национально-территориальную автономию в рамках федеративной Российской республики, гарантируя при этом соблюдение прав этнических меньшинств» [9].
Одновременно московский историк явно пытается смягчить эффект великодержавнического курса Временного правительства в отношении справедливого стремления украинства к равноправию: «Несколько неловких шагов центральной власти, воспринятых в штыки в Киеве, скоро накалили обстановку»[10]. И далее: «Считалось, что в 1917 г. источником этнических конфликтов на Украине была великодержавная политика Временного правительства. На деле развернулось взаимопровоцирование политиков: одни подозревались в “колонизаторстве”, другие – в сепаратизме. В движении украинских низов, впрочем, можно выделить три рациональных момента: стремление украинских солдат избавиться от “русской” армейской дисциплины в армии (подсознательно напоминавшей им о крепостничестве), уничтожить в тылу помещичье (польское и русское, как считалось) землевладение и сделать “своими” города (где преобладало русское и еврейское население)»[11].
Отталкиваясь от критических выпадов в сторону советской историографии, отождествлявших лидеров украинских социалистических партий (украинские социал-демократы, эсеры, социалисты-федералисты и др.), организовавших Центральную Раду, с «буржуазными националистами», В. П. Булдаков сущность процессов, наполнивших общественную жизнь в Украине в 1917 г., передает в двух абзацах, которые целесообразно воспроизвести целиком. «“Социалистических националистов” в театре советской историографии длительное время держали на амплуа “буржуазных националистов”, которым полагалось выходить на историческую сцену из двери с надписью “сепаратизм”. В принципе проблема этнонационального лидерства в условиях российской смуты – вопрос не столько истории революционной режиссуры, сколько предмет психопатологии того времени, выдвигавшей людей диссипативного склада. Весьма не схожие между собой выпускник духовной семинарии журналист С. В. Петлюра и некогда вполне русский и даже скандальный писатель и драматург К. К. Винниченко определенно подходят под этот типаж. С Временным правительством людям такого склада договориться ко взаимному удовлетворению было сложно. Эти два ведущих социал-демократа не случайно обнаружили со временем и взаимную неуживчивость. Впрочем, нечто подобное можно сказать и о других революционных лидерах, причем вовсе не обязательно украинских или “национальных”. Во время революции “заносит” и вполне рассудительных людей. Так или иначе, судьбы народов оказались сплетены с личностями, не отличающимися психической уравновешенностью. Более того, эти личности – даже вопреки собственному желанию – многократно усиливали импульсы деструктивности, исходящие от масс.
Тем не менее, именно “украинизация” армии, на которую Временное правительство вынуждено было согласиться, сыграла громадную роль в радикализации украинского движения» [12].
Приведя ряд фактов из истории украинизации армии, которые, по мнению автора, играли лишь «деструктивную роль»[13], анализ происходившего в Украине в 1917 г., собственно, и завершается.
В соответствии с осуществленной реконструкцией украинского опыта сделан и лапидарный вывод в «Послесловии» к фундаментальному труду. Ю. А. Петров связал «резкую активизацию» «национальных и конфессиональных движений» с расширением «программных требований национальных элит, начавших активно выступать за политическую самостоятельность окраин. В значительной степени тон в национально-сепаратистском движении задавала Украинская Центральная рада. По сути, революция 1917 г. стала мощным фактором распада единого Российского государства [14].
Отмеченные положения в концентрированном виде нашли отражение и в других юбилейных изданиях, историографических и теоретико-психологических экскурсах[15].
Вот, собственно, и все, что говорится относительно развития революционного процесса в самом крупном национальном регионе тогдашней России.
Дело, конечно, совсем не в количестве страниц, отведенных выявлению природы изучаемого объекта, объяснению его сущности, оценкам динамики и результатов процесса, а в выкристаллизовывавшейся фабуле изложенного. Она же, вообще-то, незатейлива: серьезных причин для национальной революции в Украине не существовало. Руководители украинства – преимущественно психически неуравновешенные люди, стимулировавшие деструктивные порывы масс, способствовали развалу страны, потому общая оценка содеянного, случившегося на этом направлении может быть только отрицательной. Встречаются и весьма солидные издания, авторы которых вообще обходят национальный фактор в свершавшихся в революционный год событиях[16].
Конечно, речь не вообще о существе концепции Великой российской революции во всех ее параметрах и слагаемых, а о производной от нее позиции относительно научной интерпретации событий в Украине в 1917–1920 гг.
Подходы украинских историков предельно четко, лапидарно сформулировал директор Института истории Украины Национальной академии наук Украины, академик В. А. Смолий. Он утверждает, что в годы независимости, то есть с 1991 г., «получил убедительное обоснование феномен Украинской революции как исторического явления, которое, развившись в недрах Февральской революции, приобрело самодостаточные черты, реализовало собственную политическую программу и после Октябрьского переворота превратилось в антипода российской революции, которая согласно экспрессивному, но точному выражению Михаила Грушевского “потянула нас через кровь, через руину, через огонь”»[17].
Принципиальное отличие обозначенного подхода от теоретических изысканий и выводов российских историков обнаруживается сразу и достаточно выпукло. Украинская революция генетически связывается лишь с Февральской революцией (то есть лишь с начальным этапом Российской революции) и превращается в антипода Российской революции после Октябрьского переворота (то есть, по меньшей мере, не вписывается в контекст Российской революции, входит в противоречие с ней). Основная и самая крупная новация, содержащаяся в московском издании, заключается в том, что «в последние годы господствующей историографической тенденцией стала трактовка событий 1917–1921 гг. как единой Великой российской революции, прошедшей в своем развитии несколько этапов, включая Февральскую, Октябрьскую революции и Гражданскую войну. При этом особенно внимательно исследуется роль Первой мировой войны в нарастании революционной ситуации.
Важным достижением стало утверждение в научной среде представления о революции как о сложном и многофакторном процессе, а не одномоментном событии. Гражданская война ныне рассматривается как прямое следствие и продолжение 1917 г., как особый этап революции»[18].
Сравнивая изложенное с положениями предисловия к украинскому двухтомнику, в котором обозначены исходные позиции его авторов, приходится констатировать, что основной упор здесь делается на декларировании отличий революционных процессов в Украине от общероссийской поступи. «История Украинской революции имеет все признаки научной концепции, – утверждается в книге. И аргументируется: а) руководящую идею – возрождение и консолидацию украинской нации для созидания собственного государства;
б) историческое время – эпоху 1917–1921 гг.;
в) руководящего двигателя социального и национального прогресса – украинский этнос и его политическую элиту;
г) систему аргументации, опирающейся на основательное историографическое наследие и могучую источниковую базу (архивный, археографический, мемуарный и другие сегменты)»[19].
Оставляя за пределами анализа и оценки специфическое понимание сущности научной концепции как таковой, системы ее элементов, надо отметить, что главный результат вышеприведенных сентенций авторы считают достигнутым: тут все было свое, отличное от общероссийского, а еще точнее – от российского – и точка. Особое ударение делается при определении характера «отношений Украинской революции с Октябрьской российской революцией»: «Они развивались самостоятельно и параллельно, хотя и имели мощные взаимовлияния. На государственно-институционном уровне это было военно-политическое противоборство, как правило, инспирированное большевистскими агрессиями. Поражения украинцев оборачивались установлением на ихних землях советских режимов, слегка закамуфлированных в автохтонно-этнические одежды. Недооценка руководителями Украинской революции социально-освободительного компонента нередко рождала проявления склонности украинского крестьянства к популярным лозунгам большевиков» [20].
Хронологически несколько опередив своих московских коллег, киевские историки по-своему решили и приобретший ныне большую остроту и актуальность вопрос о Гражданской войне. «В советской, современной российской, а частично зарубежной литературе понятия “революция” и “гражданская война” рассматриваются в тесной взаимосвязи, – констатируется в украинском издании. – Очевидно, – говорится далее, – относительно российского исторического фона такой подход имеет основания. Новейшая отечественная (то есть – украинская. – В. С.) историография фактически отказалась от использования термина “гражданская война” в контексте событий Украинской революции. Мотивируется это тем, что в Украине не было масштабных внутренних войн на идеологической почве. УНР приходилось вести оборонные или наступательные военные действия на своей территории против вооруженной экспансии армий с преимущественно инонациональным контингентом. Участие на их стороне этнических украинских элементов не дает оснований для квалификации этих войн как гражданских. Только определенные их проявления можно наблюдать в крестьянских вооруженных выступлениях против гетманского режима.
Однако и тут им противостояли, кроме внутренних факторов, чужеземные оккупационные силы. Учитывая массовость и противоречивость махновского движения, можно говорить о крестьянской противовластной войне»[21].
Изложенная позиция неизменно присутствует в печатных и устных выступлениях (на конференциях, в лекциях) заведующего отделом Украинской революции 1917–1921 гг. Института истории Украины НАНУ В. Ф. Верстюка [22].
Естественно, сформулированные исходные цели, те способы их достижения, которых придерживаются авторы и российского и украинского двухтомников, реализуются затем в весьма обширных материалах. Если в позициях первого издания улавливаются отзвуки им-перскости, прорываются чувства сожаления по поводу разрушения крепкого, централизованного государства, содержатся порицания по поводу зачинщиков этого процесса, то в ретроспективном варианте второго проекта проглядывают рецидивы хуторянства, так остро критиковавшегося в свое время В. К. Винниченко, но, судя по всему, не изжитого окончательно и поныне. Следует сказать, что и первый, и второй подходы не представляются идеальными, вызывают немалые сомнения, детерминируя потребность приобщения к поискам более конструктивных теоретико-методологических приемов, обоснования собственного видения исследуемого объекта.
Можно было, конечно, осуществить критический анализ как установочных моментов, мотивировок (они выше частично упомянуты, приведены), так и непосредственно исторических реконструкций картин, событий, процессов, посюжетно сопоставляя получаемые результаты, выйти на определенный уровень оценок.
Получилось бы некое подобие специального противопоставления рецензий, откликов на два издания, искусственного сопряжения объективно возникшей дискуссии между ними. Несомненно, определенный историографический эффект это имело бы. Однако, кроме отмеченных двух изданий, есть немалое число публикаций, авторы которых обращаются к сюжетам, связанным с развитием событий 1917–1920 гг. как в стране в целом, так и в национальных регионах в частности, и попытавшихся представить свои оригинальные взгляды на затронутые проблемы в обобщающем, концептуальном ключе[23]. Различные подходы характеризуют и специальные сюжеты в изданиях, охватывающих хронологически более широкие исторические периоды [24].
В таких обстоятельствах представляется возможным и целесообразным реализовать несколько иной замысел и способ рефлексии на создавшуюся историографическую ситуацию. Предпочтительным, конструктивным и рациональным может стать вариант, когда рассуждения и споры ведутся не на абстрактно-теоретическом уровне, а посредством предметного воссоздания картины развития исторических событий в Украине в 1917–1920 гг., лишь по ходу обращаясь к историографическим оценкам, «вкрапливая» их в повествовательную канву для дополнительной аргументации оценок, выводов, обобщений. В таком случае можно рассчитывать: реакция на схлестнувшиеся полярные подходы будет сравнительно более полновесной, доказательной, выигрышной. Сам исторический материал лучше, нежели умозрительные рассуждения, способы дать ответы на такие, к примеру, вопросы:
– каким критериям соответствуют объективно воссоздаваемые данные о размахе, динамике, результатах массового освободительного движения и, в таком случае, соответствует ли феномен критериям революции, или же остается вздорной выдумкой, досужим вымыслом идеологов, ученых, политиков;
– в актив какой из двух революций – Российской или Украинской – опять-таки в реальной жизни – зачислять масштабы влияния леворадикальных сил, довольно успешно соперничавших с другими революционными потоками и в конце концов вышедших победителями;
– чем на самом деле, если не гражданской войной, были затяжные сражения, масштабные операции многотысячных армий, состоявших преимущественно из жителей региона, граждан Украины, разделенных не хлипкими баррикадами, а настоящими фронтами, многокилометровыми окопами, тяжелыми (для того времени) вооружениями…
Перечисление подобных вопросов, естественно, можно продолжить. Точнее – их множество. И автор считает, что имеет определенное моральное право взять на себя смелость попытаться ответить хотя бы на часть из них, особенно на те, которые представляются наиболее важными, определяющими, запутанными и сложными. В активе тут – десятилетия исследовательской работы преимущественно над разработкой проблем революционной эпохи в Украине.