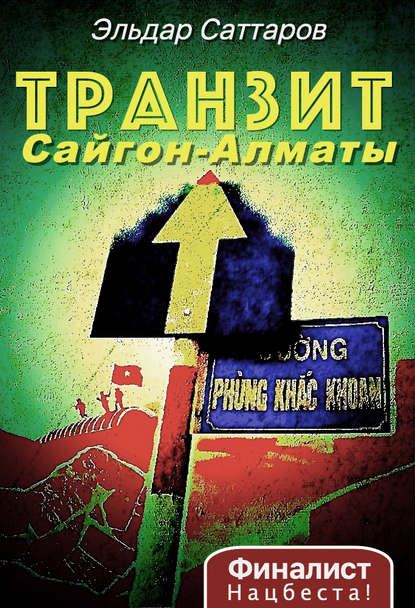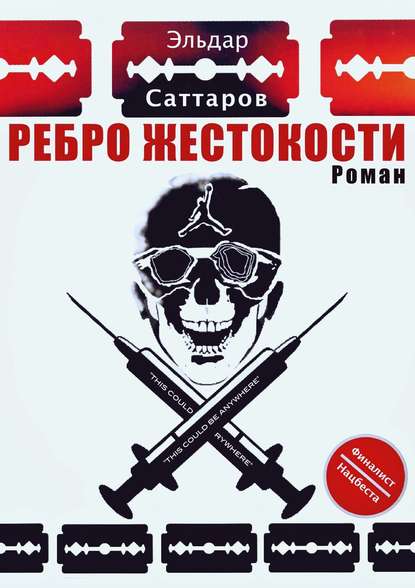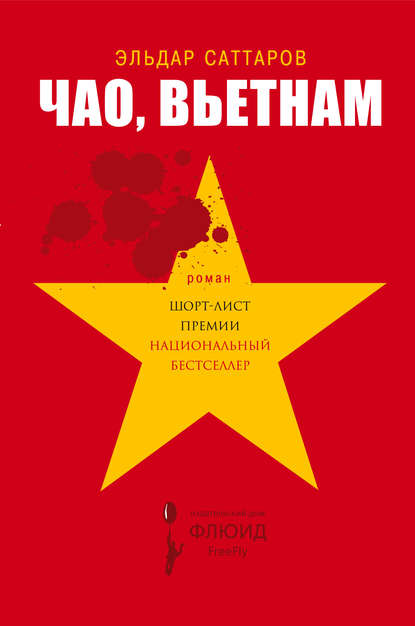Полная версия
Нить времен
Альберт перевел. Радость медленно сползала со скучнеющих лиц его собеседников. Дама кивнула и вальяжно проследовала обратно в зал ожидания, объявить своим компаньонам, что комедия закончилась, их разоблачили.
Пока Альберт раскуривал свою сигарету, итальянец вручил ему свою визитную карточку. Они познакомились, пожали друг другу руки.
– Комплименты! – воскликнул Рокко. – Где вы так научились итальянскому? У вас превосходная речь.
– Я прожил пару лет в Италии, – ответил Альберт и, как обычно бывает в таких случаях, немного рассказал о себе.
– У вас отменные лингвистические способности. Браво! Не все итальянцы способны выражать свои мысли так, как вы, – сказал Рокко. – Я живу в России уже пару лет, но так, увы, и не научился говорить по-русски. Вы, случайно, не переводчик?
Альберт ответил, что вообще-то нет, но в Италии приходилось несколько раз заниматься англо-итальянскими переводами, в частности помогая одной из неправительственных волонтерских организаций Третьего сектора переписываться с ООН и ЮНЕСКО.
– Не сомневался, что вы владеете еще и английским, – обрадовался Рокко. – Пожалуйста, напишите мне при первой же возможности.
Альберт повертел в руках визитку Рокко: на ней был указан в числе прочего адрес электронной почты. В девяностые Альберт уже пользовался электронной почтой, и ему понравился этот способ сообщения, хотя собственного адреса у него до сих пор не было. Он решил, что как только заведет электронную почту, то обязательно черкнет пару строк Рокко. На том и расстались, успев перед объявлением московского рейса перейти на «ты».
Добравшись наконец домой, Альберт начал потихоньку вживаться в изменившуюся до неузнаваемости действительность. Он поселился у родителей и для начала отправился на курсы вождения, чтобы получить права – частный извоз оставался универсальным резервным вариантом заработка, как и в советское время, – а затем и на компьютерные курсы, открытые в старом здании Академии наук. Окружающим казалось, что он ведет себя странновато. Он чувствовал себя то новорожденным, которому нужно научиться ходить, то существом с другой планеты, которое не всегда способно считывать коды землян. Освоив MS Office и Windows на курсах, он завел себе электронную почту и написал Рокко. Тот откликнулся немедленно: предложил Альберту как можно скорее вылететь на Сахалин, в город Чехов, где он, как выяснилось, работал директором по производству в крупном проекте. Оказывается, он горячо рекомендовал Альберта как отличного переводчика и уже сейчас его компания готова была предложить оклад, который выглядел привлекательнее, чем среднее предложение всех местных работодателей, с кем Альберт к тому времени успел встретиться. Разумеется, Альберт согласился.
* * *Районы и времена года… Кэмден… Брикстон… Коулун… Монг-Кок… Эглинтон… Дандас… руа Асорес… Пантанелли… Монтесьепи… Тестаччо… Трастевере… Чехов… Осталось только чувство горечи, словно привкус железа во рту, словно затянувшийся сезон дождей на душе и терпеливое ожидание бесславного конца, очередного падения, соскальзывания в знакомую черную пропасть, на краю которой привык топтаться в последние месяцы вновь обретенной, отвоеванной свободы. Страх перед неизбывными бессонными ночами, так сильно похожими на кромешный, липкий мрак, молча притаившийся в бетонных лабиринтах душного перенаселенного острова. И восторг по утрам. Ощущение полноты жизни, лишь от того, что начинается еще один день, хотя бы еще один день, который можно прожить чистым. Каждый день учиться ходить и общаться, подобно новорожденной душе, вернувшейся с того света и хранящей все еще слишком живые воспоминания о мутном и гулком болезненном мареве в мозгах и о нескончаемых нашептываниях внутреннего ужаса в сердце ночи, даже теперь при ярком свете дня. Леха Бурят при встрече попятился и побледнел взаправду: «Вот уж кого никак не чаял увидеть живым». Оказывается, больше пары месяцев жизни они мне по внешним признакам не отводили. Сравнивали с другими, кого уже успели похоронить. Вот почему так много брали взаймы тогда пластинок и редких книг – боялись, пропадет зря добро, делили наследство при моей жизни. Слава богу, хоть «Closer» на виниле меня дождался, хотя слушать его тяжело. Новый город, новое начало, новые шансы сделать доброе дело. Когда ты топчешься, балансируешь на краю пропасти, ты не думаешь о шансах на новую жизнь, не мечтаешь о звездах с неба, нет, ты привыкаешь думать о том, как бы успеть сделать хоть что-нибудь хорошее перед тем, как начнешь скользить уже вниз, начать и завершить хоть одно мизерное доброе дело, чтобы все это было не зря, чтобы придать хоть толику смысла всему тому, через что прошел, почему-то или зачем-то до сих пор оставаясь живым, в отличие от тех других, от всех остальных.
Очень многое зависело теперь от нового рабочего места, содержательности труда, отношений в коллективе. Скольжение вниз может начаться в любой момент, ускоряясь по инерции, ведь порой достаточно лишь одной мелкой провокации. Люди все те же, а пожалуй, даже и похуже, и в конкурентной возне они постоянно провоцируют, сами не представляя себе, чем это для них может закончиться. Хотя ясно, кому будет хуже всех. Потеря работы, бессмысленность выживания в грязных коробках спальных микрорайонов, как же все это знакомо, это стремительное скатывание в бездонную пропасть, на этот раз безвозвратное.
Городок, затерянный среди дремучих лесов, на равнине Сахалинского острова, после восьмичасового перелета, суток в плацкартном вагоне и паромной переправы. Поиски съемной квартиры под шквальными порывами морского ветра, переход по краю города, обрывающегося за лесопосадкой, прорезающей жилые массивы двух микрорайонов наподобие центрального проспекта. Тусклый горизонт, рыжие холмы за болотами по ту сторону городской черты. Нырок в черноту подъезда, окурки и плевки, галерея пустых бутылок на первых этажах, как водится, не менее загаженные лестничные клетки по пути на девятый. Квартиры доступны только на последних этажах. Лифты нерабочие по умолчанию. Дома возводили строители из ГДР и ЧССР из чешских же материалов. Строительство было бесплатным, по бартеру – в обмен на поставки газа по «Дружбе». По мере устаревания и выхода техники из строя, соответствующих запасных частей после развала Союза здесь, на дальних форпостах СЭВ, просто не оказалось в наличии. Какая-то мягкая масса под левой ногой на ступенях, издающая храп. Не потревожить сон бомжа, сокрытого во мраке. Он осторожно переступает через тело. Последний этаж. Кажется, путник нашел пристанище… Хозяйка показывает нехитрую обстановку, комнату, кухню, заставленный пластиковыми баклажками санузел. Водопроводы разделили примерно ту же судьбу, что и лифты. Вода здесь бывает только холодная, ее пускают по часу в день, как правило с семи до восьми вечера, но бывают и изменения в графике. Необходимо караулить. В остальном все нормально…
Но этот ветер, он не прекращается и ночью, обдает холодом все тело, окончательно нарушает, калечит и без того хрупкий, уязвимый сон. Если проснулся до четырех утра – весь день насмарку, голова как в тисках, заложенные уши, кислородное голодание, одышка, тахикардия, едва подавляемая агрессия, дыхание бездны в затылок. Сколько таких дней еще выдержать, насколько хватит моих ограниченных сил?.. Перманентно перевозбужденная, израненная нервная система, в подсознании постоянно жаждущая искусственного и обезболивающего успокоения, дает сбои едва ли не каждую ночь… Надо, чтобы хватило – я же ведь должен был, раз уж на то пошло, завершить или начать что-то, успеть сказать слова, воплотить идеи. Самому себе должен, факту своего рождения и своего возрождения. Приучиться выживать в этом тошнотворном мире, стискивая зубы, когда становится невмоготу, и подавляя свои условные психические рефлексы. Когда порывы ненастья сдувают тебя с края обрыва, взять себя в руки и держаться за любую опору цепкой хваткой, сколько сможешь, даже на пределе, когда все твои мышцы ослабли и дрожат от перенапряжения, если только не хочешь снова помирать на скрипучей койке, задыхаясь от панической досады и отчаяния. Он осматривает рамы и балконную дверь, водит руками по стене. Так и есть. Ночной ветер с моря задувает сквозь огромную дыру между подоконником и плинтусом, заткнутую тряпками, играя осыпавшейся штукатуркой на балконном полу и буквально вырывая из плоти здания новые куски, обнажая его остов. Этот дом разлагается заживо.
На следующий день Альберт натаскал цемента и песка в ведрах, одолжил у местных строителей мастерок, намешал раствор. В течение одного вечера он смог заделать эту брешь. Это было необходимо, чтобы повысить свои шансы в борьбе с хронической бессонницей. В принципе, подумалось, многие проблемы были бы, наверное, решаемы в таком конструктивном ключе, но в настроениях вокруг царила какая-то апатия, изредка прерываемая приступами жажды наживы. Этот сонный городок производил миллионы для колонизаторов, и потенциальные считаные рубли в будущем для всей остальной страны, и подбирать звенящие копейки, сыпавшиеся с перегруженного обоза, здесь рано или поздно доводилось чуть ли не всей области. «Хорошо, что у меня есть пара дней на то, чтобы обжиться», – подумал он. Будет здорово, если сегодня удастся нормально поспать, ведь завтра уже на работу – к итальянцу, с которым разговорился в стамбульском аэропорту, во время стыковки рейса из Фьюмичино в Шереметьево.
* * *Городок Чехов, с населением около тридцати тысяч человек, пережил несколько периодов экономического бума. В начале восьмидесятых годов неподалеку от поселка – точнее нескольких деревянных срубов – пропахшие дымом костров бородатые геологи обнаружили большую нефть и большой газ. Нефть залегала от девона до пермского слоя, для которого будет позже разработана отдельная буровая программа. Над нефтью покоилась оторочка из наиболее тяжелых фракций газового конденсата, поверх которой клокотала гигантская подушка из триллиона кубометров природного газа. Всё это богатство было разбито на два блока между сушей и шельфом. И всё было бы хорошо, если бы у России после распада СССР хватало финансовых и интеллектуальных ресурсов, а также новейших технологий для самостоятельного извлечения всех этих углеводородных сокровищ для продажи на мировых рынках. Но в середине девяностых российское правительство уступило права на разработку месторождения «Сахалин-10» консорциуму из двух известных компаний – бельгийской «Схелп» и итальянской «КАНИ», победившим на всемирном тендере. Судя по тексту Соглашения о разделе продукции, подписанного почему-то в Вашингтоне, округ Колумбия, условия, выставленные победителями тендера, особо не обсуждались и не оспаривались, никто, так сказать, не торговался. Цены на нефть были зафиксированы по текущим на тот момент прогнозным ценам справочного сорта «Брент», которые тогда колебались между восемью и девятью долларами за баррель. Средняя ставка восемь с половиной показалась всем вполне справедливой и приемлемой. Одному только «Газпрому» удалось отдельно оговорить совещательный механизм регулярного рассмотрения скидок на газ, который планировалось поставлять на строящийся Амурский ГПЗ, а также в магистральный газопровод до японской Ниигаты. Пока что большая часть газа закачивалась обратно в пласт для поддержания давления, и лишь небольшие объемы топливного газа после подготовки поставлялись во Владивосток.
Рокко занимал должность директора по производству, но действовал и как заместитель генерального директора предприятия, приехавшего из Бельгии. Через три года они должны были поменяться, и на его место должен был заступить бельгиец, когда совместное предприятие возглавит итальянец. Таким образом компании-операторы, выкупившие по пятьдесят процентов контрольного пакета, поддерживали баланс собственных интересов.
После работы Альберт поехал с Рокко в местный паб «Ольстер», где проводилась вечеринка метрологической службы, отмечавшей профессиональный День метрологии, который Рокко почему-то упорно называл «праздником метра». Впрочем, после политкорректного отчеканивания краткого приветствия во здравие, он умело скрылся, в то время как Альберт остался тянуть пенистое пиво в компании операторов технологических установок и полевых слесарей. Они разговорились о внедряемой на месторождении автоматизации, и Альберт, слово за слово, поделился собственным опытом, рассказав им о конвейерной работе на западной мебельной фабрике, где ему не так давно довелось гнуть спину. Например, про чудо-пилу, которая сама вырезала столы различной формы – надо было только задавать программу и правильно расставлять присоски, после чего оставалось только выгружать на нее одну за другой доски из штабелей, выточенных на соседнем станке. И так день-деньской. Операторы историям подивились, привыкнув видеть в нем офисного работника, помощника большого начальника. Они тоже рассказали ему о своей работе, в частности – о самых несусветных несуразностях, которые им доводилось наблюдать на своих рабочих участках. «Сахалин-10» отличался высокой степенью автоматизации, и, с одной стороны, все эти КИПиА, АСУ, РСУ, ПАЗ и ПиГ[3] предельно облегчали задачи управления комплексами технологического оборудования. С другой – далеко не всегда системы использовались рационально. Лед был растоплен. Альберт вспомнил между делом об итальянском социалисте Панцьери, который считал, что сама логика технических усовершенствований в области автоматизации подталкивает ассоциированных производителей к рабочему контролю над производством, тем самым приближая наступление реального социализма. На удивление, теория о возможности перехода к социализму через рабочий контроль не на шутку заинтересовала всех присутствующих, и кто-то даже спросил, есть ли у Альберта работы этого Панцьери, чтобы почитать. Работы у Альберта были – недавно он получил бандероль со старинными журналами «Красные тетради» от своего друга Пьеро, но, к сожалению, только на итальянском. Тогда они сговорились, что в следующую среду ребята заглянут к Альберту вечерком и он сможет им почитать статьи из этих журналов или хотя бы пересказать их содержание.
Рабочий контроль
Как это ни странно прозвучит, начал свой рассказ Альберт, но эксперименты с рабочим контролем начались еще в марионеточной республике Сало, при Муссолини. Фашисты попытались, на закате своей истории, реализовать концепцию «третьего пути» корпоративного государства через так называемую «социализацию экономики» путем создания «советов управления предприятиями», в которые входили как представители собственников предприятий, так и делегаты от трудовых коллективов. Практической разработкой данной организационной формы занялся Никола Бомбаччи, коммунист, добровольно присоединившийся к режиму Сало в качестве советника дуче. За основу он взял планы Вольной территории Гуляйпольского повстанческого района 1919–1920 годов, а также опыт организации цеховых Внутренних комиссий в Турине под идейным руководством Антонио Грамши того же времени. В первом случае махновская армия лишь декларировала общие принципы власти «вольных трудовых советов крестьян и рабочих» на подконтрольной территории, которые ей помешала осуществить Гражданская война. Во втором случае движение вылилось в захваты фабрик рабочими в период «красного двухлетия» и было подавлено не без участия самих фашистов. Теперь же возрождение советов было призвано обеспечить гармонизацию функционирования национальной экономики сначала в условиях военного времени, затем в условиях переходного периода, когда еще только решалось, в чей лагерь попадет Италия, западный или восточный. Фактически советы управления предприятиями остались единственной организационно-правовой формой старого режима, которую антифашистская коалиция решила сохранить при приемке-передаче государственной власти и контроля над суверенитетом, заменив фашистских функционеров в советах бывшими партизанами. У Бомбаччи, повешенного партизанами, эстафету принял Родольфо Моранди, министр промышленности от социалистов, составивший проект закона о советах управления предприятиями. Закон принят не был, но благодаря Моранди право работников на «участие в управлении предприятием» было закреплено в статье 46 итальянской конституции. Центральная роль советов в экономике, таким образом, сохранялась вплоть до победы христианской демократии над блоком коммунистов и социалистов в сорок восьмом году. За первые пять лет после установления Первой республики рационализированные процессы, введенные на системообразующих предприятиях, вроде ФИАТа или Оливетти, привели к выработке максимальных норм прибыли, заложив основы тридцатилетнего процветания. Как результат, в пятьдесят четвертом году их собственники начали инвестировать крупные денежные средства в модернизацию технологических линий и автоматизацию рабочих процессов для дальнейшего повышения получаемой ими относительной прибавочной стоимости. Это привело не только к утрате позиций старой гвардии квалифицированных коммунистов из профсоюза металлургов, входивших в обескровленные внутренние комиссии, но и к наплыву молодых, неквалифицированных, но по-своему боевых «массовых рабочих», к которым и принадлежал Пьеро, друг Альберта. В то время ФИАТ утверждался на европейском и мировом рынках, выйдя на второе место по объемам производства после «Фольксвагена», и в то же время сохранял функции центра капиталистической власти в Италии, на который ориентировались все экономические и политические силы страны. Например, бурное строительство автодорог или рост производства резины для покрышек «Пирелли» в эти годы происходили исключительно благодаря феноменальному росту производительности ФИАТа, точно так же, как предпринятое государством снижение цен на бензин и транспортных налогов. Однако в сферах образования или строительства жилья Италия отставала от других развитых стран. Так что рабочую молодежь Турина совершенно не устраивала отведенная ей роль винтиков и шестеренок безупречной машины ФИАТа. Несмотря на возможность ездить на танцы на собственных малолитражках, молодые люди чувствовали в те годы неудовлетворенность сложившимся образом жизни.
Ставшие известными планы металлургических компаний об увеличении рабочей недели до 52 часов вызвали массовые забастовки по всей Северо-Западной Италии. В считаные дни огромный коллектив ФИАТа, с его подавляющим большинством «массовых рабочих», неквалифицированных и молодых, не состоявших ни в профсоюзах, ни в левых партиях, непостижимым для стороннего наблюдателя образом оказался хорошо подготовленным к забастовке. Во время голосования, проведенного внутренними комиссиями в цехах, до девяноста процентов рабочих, включая всю молодежь с годом или двумя рабочего стажа, высказались за проведение стачки. Узнав об этом, руководство компании отозвало планы увеличения рабочей недели. У масс прорезался голос. В итоге профсоюз металлургов так и не организовал забастовку, но рабочая молодежь, без особых усилий заставившая работодателя изменить бизнес-стратегию, продемонстрировала колоссальный протестный потенциал. Более того, выяснилось, что против забастовки активнее всего выступали как раз члены профсоюза и компартии, потому что у их лидеров были для этого свои причины. Именно тогда социологи из зарождавшегося автономистского движения обнаружили в «массовых рабочих», вроде Пьеро, революционную субъектность и начали призывать их к систематическому неповиновению и осознанной борьбе с работодателем за власть над фабрикой. В этом случае социализм из программы отдаленного будущего вдруг становился реальностью. Молодые южане, никогда не читавшие ни Маркса, ни Ленина, выказывали неподдельную классовую сознательность, порожденную самой модернизацией капитализма.
Автоматизация, обобщая коллективный труд, укрепляя сотрудничество между рабочими, повышая их общую производительную мощность, в то же время следуя законам динамики самовозрастающей стоимости, превратила их в одушевленные придатки сборочного конвейера, фабричного деспотизма машин. Но именно этот бессмысленный и монотонный труд, согласно автономистским социологам, самой своей бессодержательностью должен был вызвать мотивированную реакцию «массовых рабочих» – протест и осмысленную борьбу за политическую власть над фабрикой, а затем и над всем обществом. Это было бы естественно, считали они. Раньеро Панцьери, ученик и неформальный преемник идейного наследия Моранди, призывал рабочую молодежь изучать рационализм новых технологий ради возможности немедленно приступить к «социалистическому использованию машинных средств производства». Такое «социалистическое использование» стало бы возможным только через механизмы рабочего контроля над производством. Впрочем, он не предлагал возвращаться к советам управления предприятиями, как в послевоенные годы, потому что в них функция рабочего контроля была подчинена «коллаборационистским» целям восстановления национального государства и электоральным нуждам партий антифашистской коалиции. На текущем витке развития рабочий контроль над использованием сложного технического оборудования, по мнению Панцьери, мог стать наиболее рациональным практическим способом перехода к социализму на самих предприятиях, здесь и сейчас, в отличие от нереалистичных программ введения в Италии плановой экономики сверху, после казавшейся несбыточной победы ИКП или ИСП[4] на выборах. В этом смысле, не будучи суррогатом завоевания политической власти, рабочий контроль мог бы стать максимальным выражением переходного этапа, средством давления на капиталистическое государство, залогом автономии пролетариата в рамках существующей системы, пусть сначала в условиях двоевластия, как в предреволюционной России, но с неизбежной перспективой дальнейшего решительного установления социализма во всем обществе.
На это слушатели реагируют весьма оживленно. Выясняется, что Михась, как и Данила, как и Никитос, в общем, все эти операторы без исключения на недавних досрочных выборах голосовали за КПРФ, не сомневались в фактической победе своего кандидата и верили его словам о нарушениях в ходе голосования в очередной раз, как в девяносто шестом. Победа и. о. президента Путина стала для них новым крушением надежд. И то, что кто-то в практически аналогичной ситуации Италии шестидесятых годов пришел к обоснованной гипотезе о возможности строить социализм самим, своими руками, не дожидаясь, когда на выборах победит партия, задело их за живое, можно сказать, потрясло их воображение. Тем более, что в нашем случае социализм требовалось лишь вернуть большей части общества, поминающей его добром, а не создавать с нуля, среди врагов.
«Когда во Франции наступил знаменитый май шестьдесят восьмого, – любил приговаривать Джиджи, поплевав на руки и хватаясь за черенок лопаты, – у нас в Италии ему исполнилось уже десять лет…» Те же самые фашисты из прошлого, функционеры Сало слетались, как коршуны, в Геную, славный город Сопротивления… Однажды утром я проснулся и обнаружил оккупантов… В городе, получившем медаль за восстание против фашистского режима… Старый сенатор Умберто Террачини назвал это оплеухой… Тысячи человек вышли на улицу XX сентября, слишком свежей была память… Незажившие раны, загнанные в угол подранки… Портовые рабочие, кораблестроители первыми лезут в драку с полицией… Прощай, красавица, прощай, прощай… На съезд прибыл и Карло Базиле, бывший префект города при Сало – а ведь он собственноручно подписывал указы об отправке сотен человек в концлагеря Германии!.. Мы привезем сотни уличных бойцов из Рима… Рим – «черный» город, всегда был и будет… Социальные центры там взлетают на воздух… «Они горят!..» – «Кто?..» – «Полицейские машины…» – «Где?..» Прямо возле центрального фонтана на площади Де Феррари… А это кто в фонтане барахтается?.. Ба! Да это же командир ихнего ОМОНа… Он не пытается выбраться, знает, будет хуже… О партизан, веди меня отсюда… Возвышается над ними с огнетушителем, в красно-желтой футболке, уличный боец из Рима… Карло Джулиани… Э-э-м-м, зачем ты здесь, сорок лет назад?!. А, ну ладно, реинкарнация… И возвращается ветер на круги своя… Я чувствую, готов на смерть… Раздаются выстрелы, как и сорок лет спустя, почти на том же месте… Прощай, красавица, прощай, прощай… Нет, в тот раз только один раненый был… Вот в Риме убили полицейского… У ворот Сан-Паоло… Если ты работаешь полицейским, которому приказали арестовать меня, ты можешь отказаться, тебе не обязательно выполнять приказ…
Когда ребята снова собрались у Альберта ровно через неделю, он рассказал им о дальнейшем развитии идей автономистского марксизма Марио Тронти, работавшего с Панцьери в редакции «Красных тетрадей». Разделяя теорию о необходимости политического самоуправления рабочего класса внутри капиталистического государства, в условиях фактического двоевластия, Тронти пришел к парадоксальному выводу о том, что сама модернизация капиталистического производства была вызвана классовой борьбой прошлых лет. С тех пор как пролетариат вышел на площадь Бастилии в июне 1848 года со словами «Свобода или смерть!» и начал сооружать баррикады, он стал главной движущей силой истории и уже никогда не переставал быть ею. Все видоизменения производственных сил, все процессы развития капитализма лишь следовали за борьбой рабочих и были ее непосредственными последствиями, а не наоборот, как это принято считать в историософии господствующего строя. «Вначале была классовая борьба» – Тронти назвал это свое утверждение научным тезисом и посвятил десятилетия своей жизни его отстаиванию, во всяком случае, до тех пор, пока не прошел в сенаторы от демократов. Сокращение рабочего дня или повышение заработной платы никогда не были самоцелью этой борьбы. Маркс предвидел, что с ростом капитала могут расти номинальная и реальная зарплата рабочих, но предупреждал, что вместе с ней будут расти и социальная пропасть между классами, и власть капитала над трудом. Поэтому стратегической целью борьбы рабочих всегда было подчинение производственных процессов общественным силам, иными словами – социализм на деле. У этой борьбы были свои приливы и отливы, говорил Тронти, но она всегда влияла на тот или иной выбор капитала, как хорошо организованной политической силы. Следствием таких вынужденных мер, вызванных борьбой рабочих, как правило, было усиление органической власти капитала, направленное на дальнейшую интеграцию пролетариата, его переваривание и усвоение. С другой стороны, этот вынужденный социальный реформизм мог быть использован пролетариатом до логического итога и отброшен в момент обострения противоречий ради качественного скачка к революции. Это было вопросом тактики. Тронти уверял, что сегодня стратегическая инициатива принадлежала уже не партиям, как сознательному авангарду, а всей компактной социальной массе рабочего класса, достигшего, параллельно с эволюцией капитализма, высокой степени исторической зрелости. Так сложилось в ходе исторического процесса, что связь между классом и партией (как и в нашем случае с КПРФ) оказалась разорванной по вполне очевидным причинам. Но в то же время отсутствие решительно действующей политической партии открывало широкое поле для новых форм автономной борьбы самих трудящихся, творческого подхода к неподчинению, организованному бездействию или снижению производительности через т. н. «итальянскую забастовку», политическому бойкоту и т. п., вплоть до захвата предприятий и самоуправления.