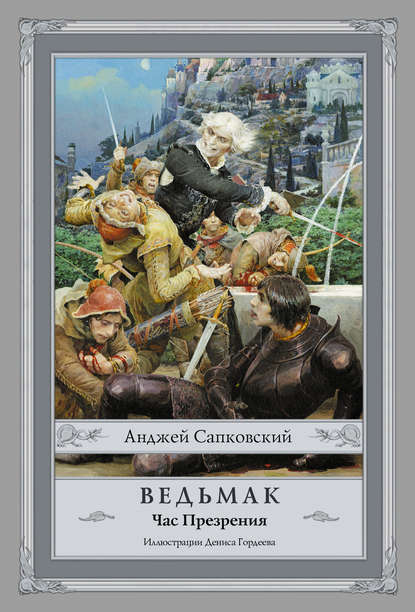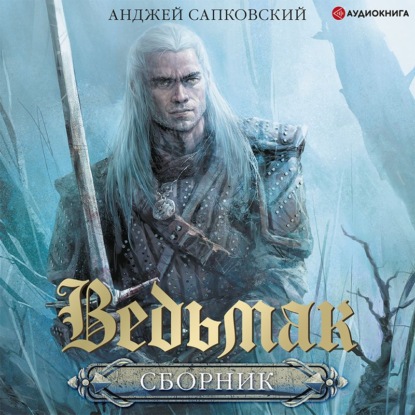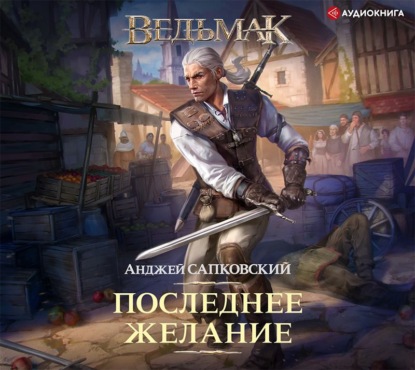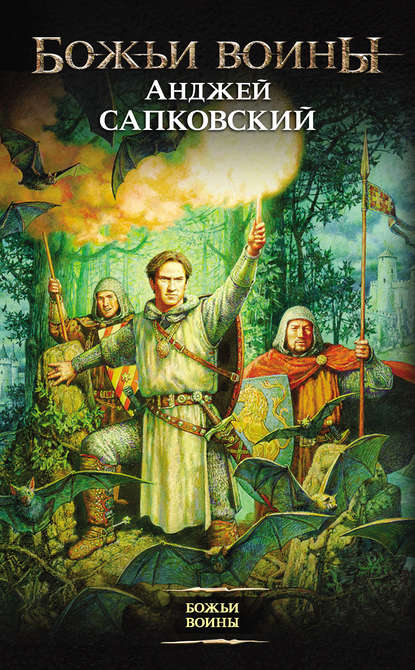
Полная версия
Божьи воины
– Куак-квааакс.
– Пропадает талант, господин водяной. Меня не поймаешь. Я прекрасно знаю, что вы понимаете и умеете говорить по-человечески.
Водяной заморгал двойными веками и раскрыл рот, широкий, как у жабы.
– По-человечески… – забулькал он, плюясь водой. – По-человечески, а что ж, могу. Только почему по-немецки?
– Один – ноль в твою пользу. По-чешски пойдет?
– Пожалуй, да.
– Как тебя зовут?
– Если скажу, ты меня выпустишь?
– Нет.
– Тогда иди на хрен.
Какое-то время стояла тишина. Прервал ее сталеглазый.
– Есть кое-что интересное, господин водяной. Я хочу, чтобы ты кое-что мне дал. Нет, не дал. Скажем так: открыл доступ.
– И не думай.
– Я и не думал, – усмехнулся сталеглазый, – что ты согласишься сразу. Был уверен, что над этим придется поработать. Я терпелив. Время у меня есть.
Утопец подпрыгнул, затопотал. Из-под его балахона снова полилась вода, похоже, ее там был солидный запас.
– Чего ты хочешь? – заскрипел он. – Зачем меня мучаешь? Что я тебе сделал? Чего ты от меня хочешь?
– От тебя – ничего. Скорее от твоей жены. Она же слышит нашу беседу, она там, у самого берега, я видел, как шевелились камыши и задрожали кувшинки. Добрый вечер, госпожа водяная! Пожалуйста, не уходите, вы будете нужны.
Из-под берега раздался всплеск, словно поплыл бобр, по воде пошли круги. Плененный утопец громко загудел. Звук был такой, будто трубит выпь, погрузившая клюв в тину. Потом сильно раздул жабры и громко заскрипел. Сталеглазый спокойно рассматривал его.
– Два года назад, – сказал он не повышая голоса, – в сентябре месяце, который вы называете Mheánh, здесь, в Счиборовой Порубке, имело место нападение, драка и убийство.
Водяной снова надулся, фыркнул. Из жабр обильно брызнуло.
– А мне-то что? Я в ваши аферы не вмешиваюсь.
– Жертвы, нагруженные камнями, забросили в этот пруд. Я уверен в том, что хотя бы одна из жертв была еще жива, когда ее кидали в воду. И умерла именно и только потому, что утонула. А если все было именно так, то она у тебя хранится там, на дне, в твоем rehoengan’е, подводной берлоге и сокровищнице. Она у тебя там содержится в качестве hevai.
– В качестве чего? Не понимаю.
– Понимаешь, понимаешь. Hevai – того, который утонул. Она у тебя в сокровищнице. Пошли за ней жену. Вели принести.
– Ты тут чушь несешь, человек, а у меня жабры сохнут, – захрипело существо. – Я задыхаюсь… Умираю…
– Не пытайся сделать из меня глупца. Ты можешь дышать атмосферным воздухом словно рак, ничего с тобой не случится. Но вот когда солнце взойдет и начнется ветер… Когда у тебя начнет лопаться кожа…
– Ядзька! – жахнул водник. – Тащи сюда hevai. Знаешь, которую!
– А, так ты, значит, и по-польски говоришь.
Водяной закашлялся, брызнул водой из носа.
– Жена у меня полька, – неохотно ответил он, – из Гопла. Мы можем поговорить серьезно?
– Разумеется.
– Тогда послушай, смертный человече. Ты верно догадался. Из тех шестнадцати, которых тогда здесь поубивали и закинули в пруд… один, хоть и крепко продырявленный, еще был жив. Сердце билось, он шел ко дну в туче крови и пузырей. Заполнил легкие водой и умер, но… об этом ты тоже догадался… я успел оказаться рядом с ним, прежде чем это произошло, и у меня его… У меня есть его hevai. Когда я тебе ее дам… Поклянешься, что выпустишь меня?
– Поклянусь. Клянусь.
– Даже если окажется… Потому что если ты столько знаешь, то, вероятно, не веришь в сказки и суеверия? Не вернешь утопленника к жизни, разбив hevai. Это глупость, предрассудок, выдумка. Ты ничего не достигнешь, только рассеешь его ауру. Заставишь умереть вторично в муках, таких, что аура может не вытерпеть и умереть. Поэтому если это был кто-то из твоих близких…
– Это не был никто близкий, – отрезал сталеглазый. – И я не верю в предрассудки. Предоставь мне hevai всего на несколько мгновений. Потом я верну ее тебе нетронутой. А тебя освобожу.
– Хм, – заморгал веками водяной. – Коли так, то на кой хе… это, хрен… понадобилась ловушка? Зачем ты меня ловил, подвергал опасности стресса и нервного расстройства? Надо было прийти, попросить…
– В следующий раз.
Около берега что-то заплескалось, дыхнуло тиной и дохлой рыбой. И почти сразу, подходя медленно и опасливо, словно болотная черепаха, рядом с ними оказалась жена водяного. Сталеглазый с интересом присмотрелся к ней. Он впервые в жизни видел гопляну[113]. На первый взгляд она мало чем отличалась от супруга, но опытный глаз священника мог улавливать даже малозаметные детали. Если силезский водяной был в общем-то лягушкой, то польская водяница скорее походила на заколдованную в лягушку княжну.
Водяной взял у жены что-то похожее на большую беззубку, обросшую бахромой водорослей. Но сквозь водоросли пробивался свет. Беззубка светилась. Фосфоресцировала. Словно трухлявое дерево. Или цветок папоротника.
Сталеглазый ногой разбросал песок магического круга, освобождая водяного из ловушки. Потом взял hevai из его рук. И тут же почувствовал, как сосуд пульсирует и дрожит, как пульсация и дрожь переходит с руки на все тело, как проникает и пронизывает его, наконец, заползает на шею и пробирается в мозг. Он услышал голос, вначале тихий, как жужжание насекомого, потом все более громкий и внятный.
– …час смерти нашей… Сейчас и в час смерти нашей… Эленча, дитя мое… Дитя мое…
Конечно, это не был чей-то голос, это не было существо, способное говорить, с которым можно было бы разговаривать, которому можно было бы, по примеру некромантов, задавать вопросы. Как в Амсете, Хепе, Туаметефе, Квебхсенуфе, египетских канонах, как в anquinum’е, друидском яйце, как в кристалле oglain-nan-Druigh, так и в hevai или другом аналогичном сосуде была заключена аура или, вернее, фрагмент ауры, помнящий только одно – момент, предваряющий смерть. Для ауры этот момент длился бесконечно. Уходил в вечную и абсолютную бесконечность.
– Спасите мое дитя! Пощадите! Сейчас и в час… Спасите мое дитя… Спасите мою дочь… Беги, беги, Эленча, не оглядывайся! Спрячься, спрячься, заберись в пущу… Они найдут, убьют… Смилуйся над нами… Молись о нас, грешных, сейчас и в час нашей смерти… Моя дочь… Матерь Пресветлая… В час смерти нашей, аминь… Эленча! Беги, Эленча! Беги! Беги!
Священник наклонился и положил пульсирующую внутренним светом hevai на берег озерка. Нежно и осторожно. Чтобы не разбить. Не нарушить. Не повредить, не порушить покой вечности.
– Рыцарь Хартвиг Штетенкрон, – сразу же угадал Тибальд Раабе. – И его дочь. Но следует ли отсюда, что она выжила? Что ей удалось убежать или скрыться? Они могли убить ее позже, когда его уже утопили.
– Баланс не сходится, – холодно ответил сталеглазый. – Утопец насчитал шестнадцать брошенных в озеро тел. Сборщик, Штетенкрон, шестеро солдат эскорта, четверо монахов, четверо пилигримов. Недостает одной штуки. Эленчи фон Штетенкрон.
– Они могли ее забрать. Знаете, для потехи… Поиграли, перерезали горло, бросили где-нибудь в лесу в какую-нибудь яму от ввороченного дерева. Так могло быть.
– Она уцелела.
– Откуда вы знаете?
– Не задавай вопросов, Раабе. Найди ее. Я сейчас уеду, а когда вернусь…
– И куда ж вы едете?
Сталеглазый взглянул на него так, что Тибальд Раабе вопроса не повторил.
Гжегож Гейнче, imquisitor a Sede Apostolica specialiter deputatus во вроцлавской диоцезии, долго раздумывал, идти на экзекуцию или нет. Долго взвешивал все «за» и «против». «Против» было явно больше – хотя бы то, что экзекуция была результатом деятельности епископской, то есть конкурирующей инквизиции. Аргумент «за» был в принципе только один: это было близко. Признанных виновными в ереси и содействии гуситам должны были сжигать там же, где и всегда, – на площади за церковью Святого Войцеха, вытоптанной догола ногами сотен любителей наблюдать за чужими мучениями и смертью.
Взвесив «за» и «против», немного удивляясь самому себе, Гжегож Гейнче, однако, на экзекуцию пошел. Инкогнито, смешавшись с группой доминиканцев, вместе с которыми занял место на возвышении, предназначенном для духовных лиц и зрителей высшего общественного или имущественного положения. Среди этих на центральной трибуне, на скамье, обитой ярко-красным атласом, рассиживал Конрад из Олесьницы, епископ Вроцлава, автор и спонсор сегодняшнего спектакля. Его сопровождали несколько духовных лиц – среди них престарелый нотариус Ежи Лихтенберг и Гуго Ватценроде, недавно сменивший отправленного в отставку Оттона Беесса на должности препозита у Святого Иоанна Крестителя. Был там, естественно, и Ян Снешевич, епископский викарий in spiritualibus. Был охранник епископа Кучера фон Гунт. Не было Биркарта Грелленорта.
Подготовка к экзекуции зашла уже довольно далеко, осужденных – восемь человек – палаческие подручные затащили по лесенкам на костры и прикрепили цепями к обложенным охапками хвороста и бревнами столбам. Костры, по последней моде, были непривычно высокими.
Если б даже Гжегож Гейнче хотя б минуту и сомневался в намерениях епископа Конрада, то теперь сомневаться перестал.
Но инквизитор не сомневался. Он с самого начала знал, что епископский спектакль был представлением, направленным лично против него.
Узнавая некоторых осужденных на кострах, Гжегож Гейнче утвердился в правильности своего мнения.
Он знал трех. Один, альтарист[114] в Святой Елизавете, болтал о Виклефе, Иоахиме Флорском, Святом Духе и реформе Церкви, однако на следствии быстро отказался от своих ошибок, сожалел о них и после формального revocatio et abiuratio[115] был осужден на ношение в течение недели покаянной одежды с крестом. Второй, художник, один из создателей прекрасных полиптихов, украшающих алтарь в Святом Идзи, угодил под инквизиторский трибунал в результате доноса, а когда донос оказался безосновательным, его освободили. Третий – инквизитор едва его узнал, потому что у него были изувечены уши и вырваны ноздри, – был еврей, некогда осужденный за богохульство и осквернение облаток. Обвинение было ложным, поэтому освободили и его. Тем не менее известие как-то дошло до епископа и Снешевича, потому что все трое стояли на кострах, привязанные цепями к столбам. И не догадывались, что своей судьбой они обязаны антагонизму между епископской и папской инквизициями. Что епископ вот-вот прикажет поджечь у них под ногами хворост. Назло папскому инквизитору.
Которым из остальных осужденных предстояло сегодня умереть исключительно ради демонстрации, Гейнче не знал. Он не помнил никого. Ни одно лицо. Ни остриженной наголо женщины с потрескавшимися губами, ни дылды, ноги которого были обмотаны окровавленными тряпками. Ни седого старца с внешностью библейского пророка, вырывающегося у подсобников из рук и выкрикивающего…
– Ваше преподобие. – Он повернулся, отогнул с лица краешек капюшона. – Его милость епископ Конрад, – поклонился молоденький клирик, – приглашает к себе. Извольте следовать за мной, ваше преподобие. Я проведу.
Делать было нечего.
Епископ, увидев его, сделал краткий и скорее пренебрежительный жест рукой, указал на место рядом с собой. Его взгляд быстро пробежал по лицу инквизитора, пытаясь отыскать на нем следы чего-нибудь для себя приятного. Не нашел. Гжегож Гейнче бывал в Риме – уже научился делать хорошие мины при самой плохой игре.
– Через минуту, – проворчал епископ, – мы порадуем здесь Иисуса и Божью Матерь. А ты, отец инквизитор? Радуешься ли?
– Невероятно.
Епископ снова буркнул что-то, втянул воздух, выругался себе под нос. Было видно, что он зол, и ясно было почему. Оказавшись на публике, он не мог напиться, а полдень уже миновал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Африка, где живут львы (лат). – Здесь и далее примеч. пер., за исключением особо оговоренных случаев.
2
Край земли (лат.).
3
где восток соединяется с севером (лат.).
4
кровопроливцы, полипы, осьминоги, лангусты, крабы (лат.).
5
Древняя матросская поговорка: «Плыть необходимо» (лат.).
6
морские карты (компасные), употреблявшиеся в XIII и XIV веках (порт.).
7
что и требовалось доказать (лат.).
8
описаниях (порт.).
9
29 июня.
10
Среда, предшествующая 25 июля.
11
глава (столица) королевства (лат.).
12
Яна Желивского и его сподвижников обезглавили 9 марта 1422 года. В понедельник.
13
Здесь: предполагаемый (лат.).
14
во‐первых (лат.).
15
во‐вторых (лат.).
16
в‐третьих (лат.).
17
Кн Судей. 7:12.
18
Мясные торговые ряды.
19
род вокальной или инструментальной композиции (лат.).
20
Первое воскресенье после Пасхи, названное по словам первого послания Св. Петра, 2:2 (лат.).
21
посмертное окоченение мышц (лат.).
22
От fluido – разжижать (лат.).
23
Место, где в своем «Парсивале» Эшенбах поместил замок Грааля.
24
в итоге (лат.).
25
Объяснение принятых в Средневековье мер и весов, монетарных единиц, пояснение наиболее трудных слов, перевод некоторых латинских сентенций, песен, гимнов, хоралов и хроник, библиографические данные источников, а также различные любопытные «штучки», свойственные эпохе, читатель найдет в конце книги. Хотя – предупреждаю заранее – не все. Ибо Автор, как известно, считает, что нет большего удовольствия, чем самостоятельно копаться в словарях, справочниках и энциклопедиях, и лишать Читателя этого удовольствия не годится. – Примеч. автора.
26
4‐я книга Царств, 18; 13:19; Ис. 36;1:37.
27
Псалом, 1;4; 1‐я книга Царств, 11:11.
28
Бог победил! Истина победила! (лат.)
29
Тебя, Господи, славим! (лат.)
30
Здесь: наскоро (лат.).
31
средневековый стилет с трехгранным острием.
32
«Советы дуэлянтам» (лат.).
33
да почиет в мире (лат.).
34
голова королевства (лат.).
35
помни, что ты (только) человек (лат.) – слова, которые шептал невольник, стоящий на колеснице за триумфатором в Древнем Риме.
36
в целом (лат.).
37
Пребенда – доходная церковная должность (от лат. prebere – дарить), аннаты – годовые выплаты с первогодовых церковных доходов.
38
все зло от церковников (лат.).
39
мэтр в Пражском университете, медик.
40
вскрытие вен в целях кровопускания.
41
24 июля.
42
Иоанна Крестителя обезглавили 29 августа.
43
великий мэтр черной магии (лат.).
44
Виннокислый калий (хим.).
45
ткань из тополиной коры (хим.).
46
Здесь: досточтимый, недосягаемый (лат.).
47
Койне – греческий язык, которым пользовались народы Восточного Средиземноморья.
48
укромная (тайная, секретная и т. д.) комната (лат.).
49
змей любви (лат.).
50
перегонные кубы.
51
выделения (от «эфир») (лат.) – бульканье.
52
открытый с двух сторон глиняный горшок в форме груши.
53
ртуть (живое серебро).
54
селитра.
55
Дословно: «голова трупа» – осадок после алхимических процессов (лат.).
56
Полубессмысленный набор немецких ругательств, представляющий собой нанизывание слов на одну нить (нем.).
57
Примерно то же, но с другим «набором» (нем.).
58
Данте Алигьери, «Божественная комедия». «Ад», песнь XXXIV. Перевод М. Лозинского.
59
Ада (лат.) (имеется в виду «Божественная комедия»).
60
молился и работал (лат.).
61
право преподавать (лат.).
62
Наипочтеннейший доктор (лат.).
63
Дивинация – магия «угадывающая».
64
особая смесь для опрыскивания (см. дальше).
65
Рука Силы.
66
великий экспериментатор и чернокнижник (лат.).
67
по плодам их (познаете их). Матф., 7, 16:20.
68
Там же.
69
чернила из киновари, квасцов.
70
Псалом 132.
71
Псалом 26.
72
колдовство, волшебство.
73
Знаком Божьего креста! (лат.).
74
неудача (лат.).
75
Шем – бумажка с магическим словом, которую, если верить одной из версий легенды, пражский раввин вложил в рот голема, чтобы его оживить.
76
ничто не происходит без причины (лат.).
77
действующая (движущая) причина (лат.).
78
Знать и понимать – равносильно познанию причин (Аристотель, «Вторые аналитики»).
79
«Растворяй и сгущай» – основные алхимические действия: превращение твердой материи в жидкую (растворением в жидкости) и жидкой в твердую (выпариванием).
80
Кенигсберг.
81
Альберт из Колоньи (Кельна) – Альберт фон Больштедт, немецкий богослов и философ.
82
Микеле Скотто – астролог XIII в., Гвидо Бонатти – астролог XIII в., Азденте – сапожник-предсказатель.
83
Дьявол может внешние органы человека преобразить и обмануть (лат.).
84
для демонстрации своей власти, для покаяния за грехи, для исправления грешных либо для нашего поучения (лат.).
85
Местность в Австрии.
86
Стенторы – у Гомера герольды греческих войск.
87
Карловом университете.
88
Знаменитая книга, выполненная по заказу известного библиофила, князя Жана де Берри в 1410–1416 годах, содержащая, кроме библейских композиций, прекрасный «календарь», изображающий 12 месяцев.
89
14 сентября.
90
Рождественский пост.
91
совершенно четко (лат.).
92
лишение чести по суду.
93
Кацер (нем. Ketzer) – название, даваемое католиками отступникам от официальной доктрины церкви, в основном в период реформации (использовалось наряду со словом «еретик»).
94
оскорбление достоинства величества (лат.).
95
Мир, заключенный 22.9.1422 г., лишил поляков выхода к морю.
96
Ничья вещь становится собственностью первого овладевшего ею (лат.).
97
Город-крепость на территории тогдашней Восточной Пруссии (теперь – в Польше).
98
«Слава в вышних…» (лат.).
99
Псалом 17:43.
100
Книга Иеремии, 9:16.
101
смертный грех (лат.).
102
преподаватель (лат.).
103
школа при церкви, при которой имеется капитул.
104
«Фиваида».
105
городские советы.
106
Пляска смерти (нем.).
107
То же (фр.).
108
«Фасты» – произведение с описанием римских религиозных праздников.
109
«Член, трахать, проститутка, свиная мать» – в этом роде.
110
пятнадцатого сентября Лета Господня 1425‐го (лат.).
111
община (лат.).
112
«Художникам, как и поэтам, издавна дано право дерзать на все, что угодно». Гораций. «Наука поэзии», 9—10. Перевод М. Гаспарова.
113
В легендах о сказочных временах Польши – обитательница озера Гопло.
114
заместитель и помощник приходского священника.
115
осознания и отречения от ереси перед трибуналом инквизиции (лат.).