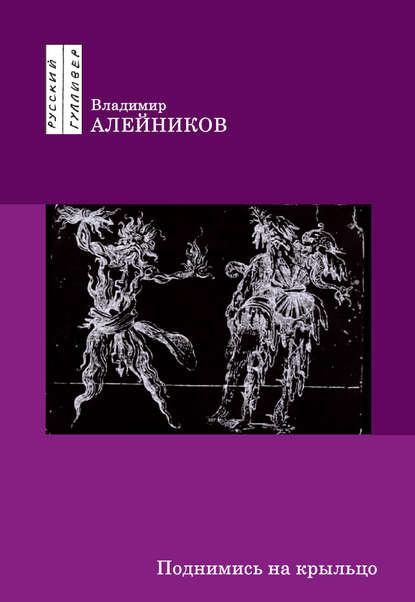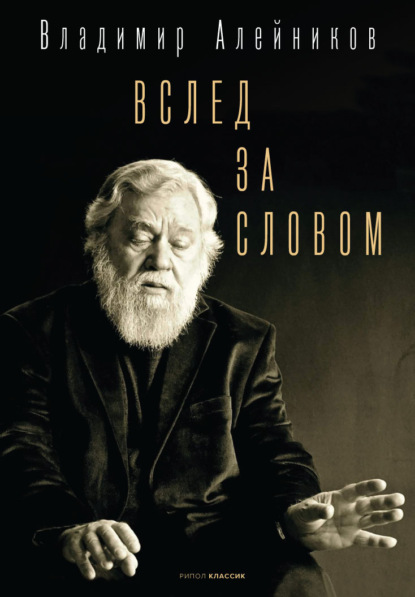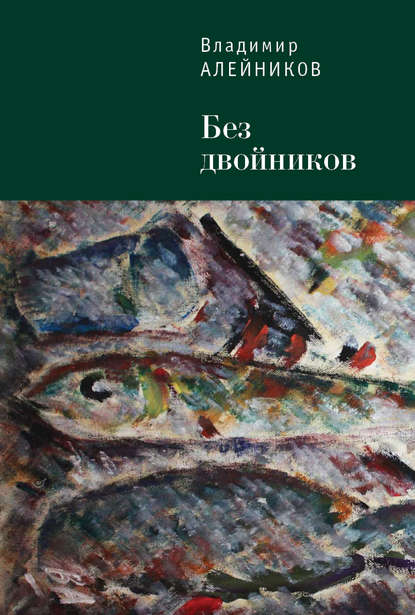Полная версия
Реликтовые истории
Поздоровалась хрипловатым, хорошо поставленным голосом – и затем пригласила войти.
Квартира была коммунальной.
По длинному, захламлённому, замызганному коридору, насквозь пропахшему запахами кофе, супов, духов, специй, грудами сохнущей на вешалках шатких одежды, стоящей по закуткам, по углам полутёмным, обуви, чего-то ещё, московского, коммунального, общежитейского, бытового, на что никто не обращал, здесь, видимо, никакого, годами, внимания, мы прошли, друг за другом, в большую, по меркам столичным, комнату.
Она, как-то очень удачно, поначалу, с первого раза, незаметно, соединялась ещё с одной, поскромнее, поменьше, невзрачной комнатой.
Высокие потолки, высокие тусклые окна, выходящие на Садовое, с вечным транспортным гулом, кольцо.
Старая, прочная, тёмная, хорошего дерева, мебель.
Широкая, чем-то пёстреньким прикрытая наспех, тахта. Стулья, массивные, очень тяжёлые, с места не сдвинуть. Низкий столик, на нём прелестные, фарфоровые, кузнецовские, лепестками воздушными брошенные на поверхность ровную, чашки, пепельницы, сигареты, на огне закопчённые джезвы.
Много книг. На буфете, на полках. На полу, под ногами, валялись издания раритетные сборников футуристов, пожелтевшие томики фетовских чудесных «Вечерних огней» – прижизненное издание, и много чего ещё.
Стены были щедро увешаны картинами, преимущественно в розовых, палевых, охристых тонах, оказалось – работами художника и приятеля хозяев, Алёши Смирнова.
В этой комнате собирались, ежедневно, ежевечерне, по утрам, по ночам, и даже непонятно, в какие часы, потому что какая разница, что за время, какое, милые, здесь, у нас, в тепле и покое, в добром доме, тысячелетье на дворе, незваные, званые и какие-то вовсе уж странные, вроде ряженых или юродивых горемычных, залётные гости.
В соседней комнате, где, в тесноте, да в уюте, жили Алёнины мать и бабушка, стоял непомерно большой, занимающий много места, концертный чёрный рояль.
Алёна была – красивой.
По Хлебникову: как мавка.
По-врубелевски: таинственной.
По-восточному: смоль с молоком.
Бледное, чистое, нежное, тревожное, непреложное, – пророчица? вестница? львица? – пронзительное лицо.
Длинные чёрные волосы. Густые. Горечь и ночь.
Светлые, цвета блёклой незабудки, с искоркой шалой, с поволокой хрустальной, глаза.
Белые, гибкие руки. Музыкальные, длинные пальцы.
Тонкие губы, с улыбкой, леонардовской, тихой, магической. Точёные, стройные, ножки в стоптанных маленьких туфельках.
Обаяние редкое. Шарм!
А голос её, хрипловатый, словно слегка надтреснутый, то, нежданно для всех, понижающийся до волшебного полушёпота, то, внезапно, вдруг, возрастающий, обретающий смело высокие, выше птичьих трелей, тона!
И так она просто держится!
И так мила и приветлива!
Настоящее чудо. Столичное.
В стольном граде – весьма необычное.
(Для меня-то – доныне – личное.
Потому-то – сквозь век – единичное).
Молодая хозяйка, прекрасная, в красоте своей огнеопасная, знаменитейшего в Москве, лучше всех остальных, салона.
Собеседница – навсегда.
Чаровница. Денница. Звезда.
Немудрено, что всё это глубоко поразило Губанова.
Удивительно и другое.
Алёна – с первого взгляда, сразу, влюбилась в Лёню.
И тут же, в день первой же встречи, начался их роман, о котором вскоре заговорили все.
Губанов тоже, конечно, впечатлившись, влюбился в Алёну.
Однако, не сразу. Или, скорее всего, из упрямства, просто сделал вид, что не сразу.
Поначалу он – дал ей возможность не на шутку влюбиться в себя.
Позволил влюбиться в гения.
И разгорелась у них такая любовь, что впору об этом когда-нибудь отдельную книгу писать.
Мне Алёна тоже понравилась.
Даже очень. Зачем скрывать?
Мы с ней сразу же стали друзьями.
Без всяческих там амуров, что могло бы в дальнейшем быть, с вероятностью, впрочем, туманной, да нам не нужно было вовсе.
Стали мы с ней – друзьями.
Хорошими. Настоящими.
И – надолго. Редкость, конечно.
Потому-то и говорю я обо всё этом бережно так и взволнованно, что понимаю, как судьба к нам была добра.
В нашей дружбе – свет был немалый.
Благородство. Нежность, пожалуй.
Огонёк, рискованный, шалый.
С песней – искорка от костра.
До чего же она была хороша, Алёна Басилова!
Как умела вести беседу!
Сколько знала всяких историй!
И люди какие, действительно интересные для меня, были запросто вхожи к ней, в старый дом на Садово-Каретной, куда так-то просто попасть нельзя было – избирательность, здесь привычная, много значила, – и отбор был серьёзным, и гости вечерами сюда сходились, – хорошо здесь бывало всегда.
Была она другом надёжным и настолько своим человеком для меня, что я доверял ей порой даже то сокровенное, чего другим, не таким, сроду бы не сказал.
И она, точно так же, делилась, доверяя мне абсолютно, со мной тем особенно важным для неё, даже тайным, заветным, чего никому другому не сказала бы никогда.
Редкие, в общем-то, дружбы молодого мужчины с женщиной, молодой, к тому же красивой, даже в молодости, – бывают.
У меня с Алёной – была.
Приведя к Алёне Басиловой, звезде богемной, хозяйке столичного, в трёх поколениях творческих, поголовно, колоритных, ярких людей прославленного салона, двух поэтов – меня и Губанова – молодых и уже известных, закруглил на этом Юдахин свои волшебные подвиги.
Ушёл незаметно в сторону, в собственную, по-своему интересную, бурную жизнь.
Отодвинулся в глубину то ли вечера, то ли ночи, то ли утренних, с холодком, с ветерком сквозящим, часов, то ли дней, которые всё-таки надо было чем-то заполнить, с чувством, с толком и с расстановкой, как положено, как всегда получалось у человека поэтичного и практичного, со спортивной крепкою жилкой, с негасимым внутри огоньком.
Дело-то было сделано.
С очевидной пользой для всех.
И он этим очень гордился.
Ну а мы с Губановым стали часто бывать у Алёны.
Всё чаще. И всё охотнее.
Зачастили. Во вкус вошли.
Нет, шучу. Просто – к дому пришлись.
Были рады там – нам обоим.
Поначалу бывали – вместе.
А потом – уже врозь, по отдельности.
Так сложилось. Так получилось.
Так разумней. И лучше – для нас.
Я здесь бывал запросто. В отношениях добрых был и с Алёниной матерью, Аллой Александровной, полной, медлительной, несколько томной, красивой женщиной, почему-то казавшейся мне пожилой, хотя была в те года она хороша собою и достаточно молода, и с бабкой, любившей со мной разговаривать и вспоминать былые богемные годы.
Показывая на рояль, бабка мне говорила:
– Вот, любил под этим роялем наш приятель, художник Осьмёркин ночевать. На полу. Всех нас уверял, что здесь ему очень нравится.
Или, в угол взглянув зачем-то:
– Вот здесь, в уголке, обычно Маяковский любил сидеть. Добрый он был. Печальный. И одинокий какой-то. Совсем не такой, как этот просто ужасный памятник на площади, ну ни капельки не похожий, официальный.
Или, стоя возле окна:
– Вот тут, вот на этом самом подоконнике, мы с Пастернаком однажды вдвоём сидели. Рано утром. Ни свет, ни заря, он пришёл, взбудораженный, к нам. Был изрядно выпивши. Ладно уж. Согласитесь, ну с кем не бывает! Да ещё и вина принёс. И тогда мы выпили с ним. Целых три часа, или больше, говорил он, а что говорил – совершенно сейчас не помню. Клёкот сплошной, бормотание. То взахлёб, горячо, увлечённо, то чуть слышно, едва разберёшь. Только звук его голоса в памяти и остался. Шмелиный гул. Что-то вроде виолончели. Музыкальный голос. Живой.
Манера подобная – связывать с кем-нибудь или с чем-нибудь какое-нибудь, любое, место в доме или попавшийся на глаза случайный предмет была в молодые годы и у самой Алёны.
Увидит, положим, на полке флакончик пустой от духов – и тут же мне говорит:
– Вот, надо же, были духи французские. Прелесть, и только. Шанель. А теперь их нет. Пришёл на рассвете ко мне Вознесенский, с большого похмелья, увидел духи – да и выпил.
Увидит в углу забытую, недопитую рюмку – и сразу:
– Это Сапгир приходил. Ночью, представь себе. С выпивкой. Спать никому не давал. Стихи свои новые нам желал почитать, немедленно. Много, целую книгу. Я совсем не спала, ни минуты. Слушала. Кофе варила. Генрих выпил, рюмка за рюмкой, две бутылки водки. Потом начал третью, но не осилил. Поехал домой, отсыпаться.
Посмотрит вскользь на гитару, под рукою всегда стоявшую, наготове, – и говорит:
– На ней Окуджава играл. Пел он у нас недавно. Помнишь песню его чудесную – «Эта женщина – увижу и немею…» Это он мне посвятил.
Ну и далее, в том же роде. Предмет – и рассказ.
С подробностями. С деталями конкретными. Множество раз.
Алёна была человеком смелым, даже отважным.
Способна была на решительные, непредвиденные поступки.
Что бы ни происходило с ней – она всегда находила выход из положения, верный, точнейший ход.
Как давалось ей это? Непросто.
Но всегда она – побеждала.
(Нрав. Характер. Приметы роста.
Волевое – в действе – начало).
Через много лет, отшумевших друг за другом, сплошной чередою, после бурных смогистских времён, отошедших, с шумом и с грохотом, со слезами, с кровью, в былое, в совершенно иную пору, в дни всеобщего разобщения, разбросавшие всех нас поврозь, но приязнь взаимную нашу одолеть и убить не сумевшие, ну а с нею и память о молодости, в бесконечные, грустные дни выживания и терпения, в дни метаний её и надежд на какие-то слишком уж призрачные улучшения в жизни, когда у неё украли машину, она, огорчившись, вначале обратилась, как полагается нашим гражданам, прямо в милицию.
Но когда поняла, что там не помогут ей никогда, возмутилась и занялась необходимыми поисками сама, по всем детективным, классическим, шерлокхолмсовским, твёрдым, железным правилам. И машину свою – нашла.
Украли её, как выяснилось впоследствии, сами менты.
Об этом в «Литературке» даже статья была.
Родственные отношения с Лилей Брик и её сестрой, живущей во Франции, Эльзой Триоле, супругой поэта-коммуниста, сюрреалиста бывшего, Арагона, помогли Алёне однажды, в беспросветных семидесятых, под настроение, видимо, взять да и съездить в Париж.
Мать губановская, сотрудница ОВИРа, никак не хотела выпускать её из страны и всячески ей препятствовала.
Сердилась она тогда на Алёну, из-за сыночка, из-за Лёни, одной из виновниц сумбурной жизни которого считала, забыв о прочих, прежде всего – её.
Но Алёна её победила – и вырвалась за границу.
И побывала в Париже.
И возвратилась в Москву.
А несколько позже – не только помирилась, но умудрилась подружиться с мамашей губановской, не такой уж суровой в общении, как на службе, вполне симпатичной, истомлённой безумствами сына и нелёгкою долей женской, но достаточно стойкой дамой.
Мне Алёна была – верным другом.
В тяжелейших былых ситуациях, особенно в долгий период безысходных моих бездомиц, она выручала меня.
Да и сама она, в любую минуту, могла обратиться ко мне за помощью – и об этом прекрасно помнила.
Ну а Лёня… Лёня – другое.
Лёня – это её любовь.
Была она года на три, не больше, постарше Губанова, но это ведь пустяки.
Оба они превосходно, удивительно быстро, спелись.
Песнь любовная их получилась, по судьбе, двухголосной и страстной.
Не сомневаюсь нисколько, что и теперь эта песнь в Алёнином сердце жива.
Да, очень ко времени, право же, пришлась Алёна Басилова, богемная фея, в Москве.
Без неё, наверное, добрых полтора десятка насыщенных до предела всем невозможным и возможным для памяти лет были бы для меня не такими, совсем не такими, каковыми они оказались – во многом благодаря лишь тому, что Алёна присутствовала в этих, ставших легендой, годах.
(Приедешь, бывало, к ней, созвонившись, обычно, заранее. Но иногда и спонтанно заскочишь, так, на авось.
Откроет она, улыбнувшись, тяжёлую старую дверь квартиры. Войдёшь в прихожую. Чуть позже – в комнату к ней.
На улице холод, снег. Продрогнешь там до костей. Ветер такой, что с ног валит. Кошмар московский.
А у неё – тепло. Форточка даже открыта. От батарей отопления жаром пышет на метр.
Посмотрит она, сощурясь, на меня, внимательно, пристально. Вздохнёт. Улыбнётся снова. С лукавинкой подмигнёт.
Пойдёт не спеша на кухню коммунальную, сварит кофе. Принесёт. На столик поставит. И – присядет напротив меня.
Я достану бутылку вина. Открою. Мы выпьем с нею. Понемногу. Так, для сугреву. Для начала. Выпьем ещё.
Кофеек ароматный станем отпивать помаленьку. Закурим. Дым поднимется сизыми кольцами к высоченному потолку.
Ни о чём не станет она меня дотошно расспрашивать. Мало ли что со мною там, в отдаленье, стряслось?
Зачем непременно в душу лезть? Если будет надо, сам расскажу о том, что тяготит или мучит.
Уж она-то поймёт, что сейчас надо просто побыть со мной рядом, поддержать человека, друга, помолчать, в глаза посмотреть.
Возьмёт Алёна гитару. Настроит её привычно. Под пальцами, длинными, гибкими, отзовутся рокотом струны.
Сядет напротив: белое лицо, грива чёрных волос по плечам, голубые глаза, лёгкие тонкие руки.
И запоёт она старинный романс. Прелестный. Волшебный. С горчинкою тайной и сладостью непоказной.
Или что-нибудь, с озорством, на подъёме, повеселее, например, наподобье такой, как воробышек, бойкой песенки:
– Город Николаев, фарфоровый завод. Живёт одна девчоночка двадцать первый год. С вами, мальчишки, с вами пропадёшь, с вами, негодяями, на каторгу пойдёшь!..
И тогда улыбнёшься вдруг, сам, невольно. И рассмеёшься. Всем обидам своим, огорченьям и нелепицам – вопреки.
И тогда на душе у тебя станет сразу же веселее. И встаёшь, ни о чём не жалея – и друзей драгоценных любя.)
Не удивительно вовсе, что вскорости Лёня с Алёной неразлучными стали. Спелись. Основательно. Больше: срослись. Полюбили друг друга. Сроднились. Всюду вместе ходили. Богема ошарашенная обсуждала новость эту: ну и дела!..
Будучи, как известно, далеко не подарочком, Лёня отчебучивал в доме, где все полюбили его, порою такое, о чём и сегодня говорить неохота. Бузил. Напивался. Лез на рожон. Скандалил. Бил стёкла. Посуду крушил. Под окнами ночью орал, порываясь в квартиру проникнуть. Ломился в дверь. Нарушал устоявшийся быт.
Но это ему прощали. Всё здесь ему прощали.
Отпаивали валерьянкой. Успокаивали. Утешали.
Его ведь считали гением. Чистой воды. Натуральным.
Гения – русского, буйного, – следовало беречь.
И тем более не удивительно, что Губанов с Алёной Басиловой через некоторое, недолгое, время, взяли да поженились. Честь по чести. Официально. То есть – в загсе зарегистрировались. Вместе стали жить. Как положено. Чем не пара? Всем парам пара!
Голубки, да и только! Пташки.
Ворковали нежно вдвоём.
Он ей:
– Лёка, Алёнка! Лапа!..
Она ему:
– Лёка, Лёнечка!..
Блаженство. Сцена любовная.
Идиллия. Пастораль.
В шестьдесят шестом, поспокойнее предыдущего, с бурями многими, восстанавливавшем постепенно ритмы жизненные и силы, и душевные и физические, завиток спирали таинственной распрямившем слегка году, в мае месяце, по настоянию Алёны, категорическому, даже больше, ультимативному, чтобы воздухом свежим дышать, для здоровья, прежде всего, сняли мы в Переделкине дачу.
Две семейные пары. Слишком уж необычные. Молодые.
Алёна с Лёней Губановым.
И я с тогдашней моей женой Наташей Кутузовой.
Два знаменитых на весь мир подлунный смогиста.
Два гения. Вместе с супругами.
Дом, который облюбовали мы, расположен был на краю территории дачной. За ним начинался обширный пустырь, а за этим диким пространством, поблизости, проходила железнодорожная линия. Участок за шатким забором был просторный, заросший деревьями: соснами, по-лесному высокими и раскидистыми, по-корабельному пахнущими терпкой, густой смолой, и лиственным чем-то, помельче, но тоже густым, изобильным в зелёном своём роскошестве, трепещущим лёгкой листвой и пронизанным, словно нитями серебристыми, птичьим щебетом.
Губанов с Алёной жили в комнате, расположенной на первом, с ветвями, глядящими в окошко их, этаже.
Мы с Наташей жили в другой комнате, на втором этаже, небольшой, уютной, очень светлой и симпатичной.
Всё шло хорошо. Мы вставали, вместе с птицами, или позже, кто когда, согласно привычкам и желаньям капризным своим, пили чай или кофе, беседовали, принимали гостей, выпивали, понемногу, для настроения, иногда гуляли в лесу, я стихи писал, а Губанов сочинял чудесные сказки для детей, и деньки подмосковные были радостны и чисты.
И однажды, средь ночи, поздно, мы с Наташей слышим отчаянный, жутковатый губановский крик:
– А-а-а!..
И звуки, следом за криком, грохочущие: бум! бум!
Потом слышим снизу пронзительный, истошный Алёнин вопль:
– А-а-а!..
Что случилось? Война? Пожар? Или, может, землетрясение?
Выходим с Наташей, сонные, толком ещё ничего не соображая, из верхней, своей, как считали мы, комнаты.
И видим такую картину.
По деревянной скрипучей лестнице к нам наверх, тяжело, с натугой дыша, еле-еле передвигаясь, шажок за шажком, одной рукой держась за перила, чтоб не упасть, а другой рукой за сердце хватаясь, поднимается к нам Алёна, в белой, длинной, до пят, свободной, измятой ночной рубашке, с распущенными, всклокоченными чёрными волосами, с безумными, в точку одну глядящими неподвижно, сквозь ночь, голубыми глазами, с лицом, не бледным отнюдь, а совершенно белым, настолько белым и странным, что казалось оно поначалу каким-то потусторонним, и на этом лице мистическом, на сплошной белизне его, под глазом, уже проступает некая синева, нарастает, нежданно темнеет, превращается в нечто лиловое, набухает комком, превращается в нечто чёрно-лиловое, мрачное, занимает, став сгустком чудовищным, половину лица, – и Алёна, ни жива, ни мертва, не идёт, а как-то наискось тянется, вверх по лестнице шаткой, к нам, и только стонет и стонет, не в силах и слова сказать.
Ничего себе, други, видение!
Когда мы её поддержали, помогли добраться до нас, успокоили, то оказалось, что под глазом у нашей подруги вырос просто невероятный, здоровеннейший тёмный фингал!
Вот что произошло у воркующих в Переделкине голубков.
Алёне в ту ночь не спалось. Она встала тихонько и вышла покурить, в своей длинной, белой рубашке ночной, с распущенными чёрными волосами.
Губанов же то ли никак не мог заснуть, то ли мучился с похмелья. Он пребывал в состоянии меж засыпанием и ещё не пришедшим сном.
И когда, возвращаясь в комнату, на пороге Алёна встала, ненадолго совсем, вся в белом, – то Губанову померещилось, что стоит перед ним привидение.
Вначале он просто, с испугу, заорал. Всем известна была его чрезмерная мнительность.
Потом проявились в нём его бойцовские качества.
Не долго думая, он вскочил и заехал ногой, посильней, со всего размаху, прямо в физиономию так его, бедолагу, испугавшему привидению.
После чего, с осознанием одержанной им победы, немедленно отключился.
Так что воплей Алёниных он уже не слышал. Он спал.
Вопли слышали – мы. Истошные. Отчаянные. С надрывом.
И фингал под глазом Алёниным, здоровенный, видели – мы.
И всю ночь, позабыв о сне, растерянные, взволнованные, до утра, с его благодатным и целебным лиственным шелестом, птичьим щебетом под окном, перекличками электричек вдалеке, ветерком прохладным, что само по себе приятно, и особенно для болящей, исстрадавшейся женской души, для израненной нашей подруги, успокаивали Алёну.
Чаем её отпаивали. Душистым, свежезаваренным.
Вина ей сладкого налили.
Примочки нужные делали.
Словом, разными способами поддерживали подругу.
И она, помаленьку, не сразу, наконец-то пришла в себя.
А Губанов – спал себе, мирно, преспокойно. Всё спал и спал.
И когда, проснувшись, он вспомнил, как лихо расправился ночью с привидением, то, взвинтившись, вскочил и тут же, немедленно, ринулся к нам, чтоб скорее поведать друзьям о случившемся.
И увидел у нас жену свою, Алёну, с фингалом под глазом.
И весьма удивлён был: откуда эта дрянь на лице у неё? В драке, что ли, она побывала?
А когда мы ему объяснили, в чём дело, то не поверил, что виновник фингала, возникшего, неизвестно, как, и откуда, и зачем, под Алёниным глазом этой ночью – именно он.
Куда приятнее было ему ощущать себя героем, былинным витязем, одержавшим победу в жестоком сражении с привидением. А заодно и с прочими, нехорошими, тёмными силами.
Так он решил – и точка.
Так ему нравилось думать.
И, чтобы скорее отпраздновать свою ночную победу, а заодно, конечно, и вовремя опохмелиться, он сразу же предложил мне сгонять вместе с ним в магазинчик пристанционный, за пивом.
Что мы и осуществили.
Наверное, пиво это, выпитое на воздухе, среди сосен, под ясным небом, в переделкинском тихом дворе, помогло и Алёне избавиться от страданий своих ночных.
Через день-другой от фингала на лице и следа не осталось.
И голубки продолжали ворковать в окружении птиц, распевающих песни свои, и деревьев, листвой шелестящих и скрипящих широкими кронами на прохладном, сквозном ветерке, на свежем, пропитанном запахами вешних трав, подмосковном воздухе, в тишине, в непосредственной близости от писательских дач, с их жителями, литераторами советскими, сплошь и рядом официальными, глубоко ненавистными доблестному предводителю всех смогистов, победителю привидений, Губанову, и в Переделкине сияло весёлое солнышко, голубело чистое небо, и на Лёню уже нисходило желанное вдохновение.
Много всяких историй бывало.
Их полку всегда прибывало.
По прошествии лет – не счесть.
Что ни шаг – то напасть иль весть.
Молодая любовь. Горячая.
То на ощупь, а то и зрячая.
То наитье, а то и ожог.
Изумленье. Горенье. СМОГ.
(Звук не гаснущий. Век – неистов).
Эпизод. Из жизни смогистов.
Просто – вспомнилось. И – осталось.
Вот и всё. (Ну а сердце – сжалось).
Алёна была, разумеется, участницей, нет, героиней, да ещё и какой, смогистского, на глазах у неё зарождавшегося, чтоб расти и всё крепнуть, движения.
И вообще была она – хорошей. Просто – хорошей.
Осталась она для меня – молодой. Уже навсегда.
Такой вот феей – красавицей – белолицей, черноволосой, белорукой, голубоглазой, другом верным, соратницей давней, современницей славной моей, – пусть живёт она в книгах моих.
В них ещё мы увидимся с нею.
Хотя, впрочем, всё в нашей власти, если власть эта – русская речь. При некотором желании нам, пожалуй, прямо сейчас можно с ней увидеться. То-то вспоминаю частенько её.
Не хочет она, Алёна, никуда уходить. Понимаю. Узнаю характер крутой, звёздный нрав. Соскучилась, видно.
Да и я соскучился тоже. Сколько лет мы не виделись? Много. Ничего. Наверстаем сполна всё упущенное. Итак…
Поздней осенью шестьдесят четвёртого, в хмурую пору, в конце ноября, наверное, читал я свою осеннюю, новую книгу стихов, друзьям – Алёне и Лёне.
Жили они тогда, временно, в чьей-то квартире. В каком конкретно районе – совершенно сейчас не помню. Я её, эту чужую, пустующую квартиру, просто не воспринимал, как именно их жильё.
Но зато чету молодую, голубков московских воркующих, до сих пор прекрасно я помню. Они были тогда очень счастливы.
Я приехал к ним. Навестил их. Они звали меня специально – чтобы новые вещи мои там, в пристанище их, услыхать.
Стал я читать. Волновался очень. Весь даже взмок. Напряжение было таким, что меня иногда пошатывало. Первое чтение свежих стихов своих – самое сложное. Пусть читаешь даже немногое и недолго, так, для начала, для того, чтоб услышать звук самому, воскресить в сознании строй, движение, ритмы, пластику, речь, ведущую за собой..
А я прочитал – всю книгу.
Наконец, я закончил чтение, необычно, страшно устав.
Губанов, нервичный, бледный, монотонно меня нахваливал.
И тут проявила свои душевные свойства Алёна.
Она подошла ко мне, погладила по плечу:
– Вовка, родненький, дорогой, лапа, миленький, успокойся! Ну что это ты сегодня так сильно разволновался? Нельзя же так вот выкладываться, как это делаешь ты. Так ведь и помереть можно, запросто, был – и нету. А тебе ещё жить да жить надо. И ты это знаешь. Ты так читаешь, с такой отдачей, рисковой, полнейшей, будто здесь же, прямо на месте, снова пишешь эти стихи. Столько сердца, столько души всегда в своё чтение вкладываешь! Относись ты к этому чуточку поспокойнее, потрезвее. А то вон за сердце держишься. Сейчас я тебе, дружище, валокардинчика дам. Всё, всё, перестань волноваться. Гениальные это стихи. Молодец. Читай мне почаще. Всегда ко мне приходи. Вообще – всегда приходи, что бы там с тобой ни случилось. И просто так приходи, навестить, покалякать вместе. Понял? Ну, хорошо, хорошо. Помни, Вовка, я тебе друг. А сейчас успокойся. Мы рядом.