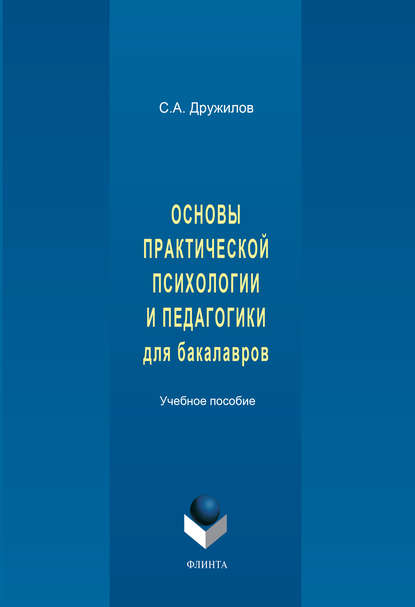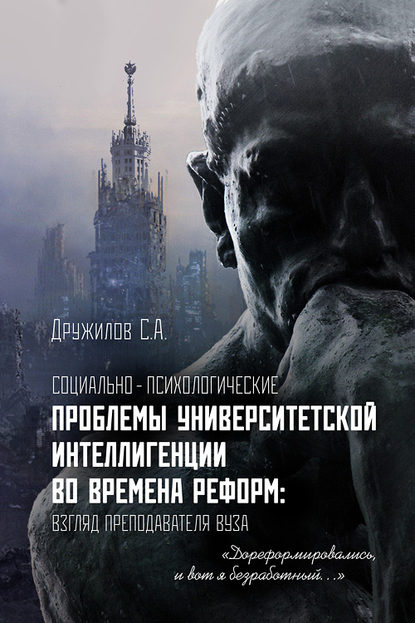
Полная версия
Социально-психологические проблемы университетской интеллигенции во времена реформ. Взгляд преподавателя
B. И. Ленина от 2 августа 1918 г., предоставляющего всем трудящимся право поступления в любое высшее учебное заведение независимо от предварительного образовательного ценза облегчило прием малообразованных людей. Ликвидация юридических и исторических факультетов и другие «инновации» существенно снизили качество высшего образования.
Однако, как отмечает Г.И. Ханин, наиболее трагические последствия имело катастрофическое сокращение финансирования вузов. Оно привело также к катастрофическому ухудшению материального положения преподавателей, поставив даже профессоров на грань, – и за грань голода и холода.
Полностью прекратилось обеспечение вузов новыми книгами и оборудованием, отопление учебных и научных помещений [Ханин, 2008].
Но и в этих условиях интеллектуальная жизнь творца продолжается – пусть и наедине с самим собой и своими мыслями. Подтверждение этому мы находим у графа Алексея Николаевича Толстого (1883-1945 гг.), русского и советского писателя в романе «Хождение по мукам: Восемнадцатый год». Возле печки-«буржуйки», – пишет А.Н. Толстой, «придвинув поближе изодранное кресло, профессора, обросшие бородами, в валенках и пледах, писали удивительные книги» [Толстой, 1971, с. 268].
Уже в начале 20-х г. власти Советской России приступили к формированию новой, пролетарской интеллигенции.
В то же время ряд ученых, профессоров, преподавателей вузов с энтузиазмом восприняли социальные преобразования, проводившиеся под лозунгами «социальная справедливость», «равенство», «свобода», «братство». Они искренне верили в то, что Россия стоит на пороге социального и духовного возрождения, что революция открыла новые, перспективы в развитии общества, стремились активно включиться в созидание новой жизни [Абульханова-Славская и др., 1997, с. 50].
Почти исключительно на энтузиазме «голодных и холодных» преподавателей, высшая школа продолжает работать! Молодые люди идут учиться! По данным, приводимым С.В. Волковым, если в начале 1918 г. в стране было всего 60 тыс. студентов, то к осени 1919 г. их число увеличилось от 2 -3,7 раза и составило 117 тыс. [Волков, 1999] (по другим данным, на которые также ссылается С.В. Волков – 231,3 тыс.). В 1919 г. насчитывалось 4100 университетских преподавателей (по другим данным – 1927). И они работают, занимаются образовательной и научной деятельностью!
Выпуск специалистов вузами небольшой: многие молодые люди, попавшие в вуз «по разнарядке», не имеющие элементарных знаний для обучения, студентами лишь числились. И все же выпуск дипломированных специалистов есть! Известно, что за 1918-1921 гг. вузы выпустили 1,6 тыс. инженеров [Сафразьян, 1977, с. 68].
31 января 1920 г. по инициативе М. Горького в Петрограде был открыт первый в советской России Дом ученых – во Владимирском дворце, по адресу: Дворцовая набережная, дом 26. Его история началась с размещения здесь Петроградского комитета по улучшению быта ученых (ПетроКУБУ). В 1921 г. по инициативе В.И. Ленина комитет был преобразован в правительственную организацию – Центральную комиссию по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ) при Совете Народных Комисаров (СНК) страны, существовавшую до 1937 г.
Это был специальный центр распределения продовольствия, снабжавший, по данным Г. Уэллса, 4 тыс. научных работников и членов их семей, в общей сложности около десяти тысяч человек [Уэллс, 1964] Тут не только выдавали продукты по карточкам, но была и парикмахерская, ванные, сапожная и портняжная мастерские и другие виды обслуживания. Имелся даже небольшой запас обуви и одежды. Здесь же работал медицинский стационар для больных и ослабевших.
Деятельность созданной в 1921 г. ЦеКУБУ не ограничивалась организацией материальной помощи, в ее компетенцию входили также вопросы «культурного объединения» деятелей науки и искусства. Структура ЦеКУБУ изначально состояла из двух основных органов: экспертной комиссии, которая занималась вопросами распределения материальной помощи, и управления делами, взявшего на себя решение других организационных вопросов, в частности, вопросов санаторного лечения, обеспечения культурных и деловых связей с другими регионами и проч.
Для улучшения материального положения и обеспечения провинциальных ученых ЦеКУБУ в 1922 г. были образованы местные Комиссии по улучшению быта ученых (КУБУ).
Следует иметь в виду, что ЦеКУБУ создавалась по принципу элитарной, а не профсоюзной организации. По данным отечественных историков (Е.В. Водопьяновой, Л.В. Ивановой, Е.А. Осокиной), на ее обеспечении находилось 8000 человек с семьями – наиболее ценные специалисты всех отраслей знания и искусства. Списки ученых, как пишет Е.А. Осокина, составлялись «на местах» и рассматривались Экспертной комиссией ЦеКУБУ, после чего утверждались правительством. Ученые, профессора, преподаватели вузов, «попавшие в список» ЦеКУБУ, уже в то время получали определенные привилегии. Им выдавался бесплатный академический паек дополнительно к основному пайку, который получала интеллигенция в тот период.
Кроме того, ЦеКУБУ выдавала «списочным ученым» небольшое денежное обеспечение и премии, как считалось – «за лучшие научные труды», – а также, что более существенно, чем обесцененные деньги, дрова, белье, обувь, одежду, бумагу, карандаши, чернила, электрические лампочки. В условиях разрухи и голода это были бесценные дары.
С дальнейшим развитием ЦеКУБУ система благ и льгот расширялась. Но пока критериями для этой правительственной организации (сейчас бы ее, вероятно, именовали бы «фондом») были реальные научные труды. «Внутри интеллектуальной элиты, попавшей в списки ЦеКУБУ, формировалась внутренняя иерархия. Поскольку старые звания и регалии не действовали, а новые еще не были созданы, единственным мерилом значимости ученого служили его научные труды. Иерархия снабжения определялась научной значимостью ученого. Этот принцип действовал порой независимо от службы на государство. Ученые и деятели искусства могли получать блага, просто работая дома и даже находясь за границей» [Осокина, 1999, с. 103].
В то же время, через ЦеКУБУ советское правительство проводит политику искусственного расслоения научно-педагогического сообщества. Отнесенных к одной категории «правильных» ученых власти хорошо «пригревали и подкармливали». Ученым и профессорам, отнесенных к иной категории, не только выделялось меньшее ресурсное обеспечение, но и через этот правительственный орган давалось «добро» на проведение по отношении к ним санкций и репрессий. Но об этом – позже. А сейчас вернемся во времена разрухи в Советской стране.
Английский писатель, посетивший Россию в это страшное и жестокое время, отмечает позитивный вектор в действиях Советского правительства по отношению к выпуску «серьезной литературы». Г. Уэллс пишет: «В Англии и Америке выпуск серьезной литературы по доступным ценам фактически прекратился сейчас "из-за дороговизны бумаги". Духовная пища английских и американских масс становится все более скудной и низкопробной, и это нисколько не трогает тех, от кого это зависит» [Уэллс, 1964].
Обратим внимание, что эта проблема близка и понятна нашему, -думающему, - современнику второго десятилетия XXI века!
Далее писатель и публицист называет позитивные действия молодой Советской власти, изначально ориентированной на просвещение народа: «Большевистское правительство […] стоит на большей высоте [по сравнению с правительствами Великобритании и США, не уделяющего внимания изданию – С.Д.]. В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному Другому народу» [там же].
И мы помним, что это все продолжалось более 70-ти лет, и наша страна по праву была признана самой читающей в мире. Но продолжим воспоминания очевидца, высказывающего сожаления о том, что «эта созидательная работа носит отрывочный, наспех организованный характер. Какими путями всемирная литература дойдет до русского народа, я не представляю.
Книжные магазины закрыты, а торговля книгами запрещена, как и всякая торговля вообще. Вероятно, книги будут распределяться по школам и другим учреждениям» [там же].
Отметим, что в отечественной истории в разные ее периоды, – и не только в годы гражданской войны, – нужды высшего образования неизменно находились в числе приоритетов властей на одном из последних мест.
После гражданской войны, преодоления экономической разрухи, вся дальнейшая история советского высшего образования идеологически связана с двумя обстоятельствами факторами, на которые указывает Г.И. Ханин. С одной стороны – глубокое уважение, почтительное отношение к науке и образованию, признание их огромного значения для развития общества и экономики. С другой стороны, – стремление властных структур обеспечить политическую лояльность студенческого и преподавательского состава вузов [Ханин, 2008].
Трагизм положения интеллектуального слоя в годы разрухи усугубляется революционным террором (или так называемым «красным террором») по отношению к российской интеллигенции, важнейшей частью которой является научная и университетская интеллигенция.
Еще не раз в отечественной истории преподаватели и ученые будут жертвами репрессий и различных видов террора. Поэтому необходимо изначально разобраться в используемых в понятиях.
Вузовская и научная интеллигенция – объект террора
«Террор – бесполезная жестокость, осуществляемая людьми, которые сами боятся».
Ф. Энгельс (1820-1895 гг.)Этимологически термин «террор» (лат. terror – страх, ужас) означает действия, направленные на устрашение политических противников, выражающимся в насилии (вплоть до уничтожения), и принуждение его вести себя определенным образом. «Террор» – это способ управления социумом посредством превентивного устрашения.
Подлинный террор (в смысле «запугивание») не равнозначен понятию «массовые репрессии», он подразумевает внушение тотального страха не только реальным противникам – борцам с режимом (которые и так знают о последствиях и готовы к ним), а целым социальным общностям. Изначально (до теракта 11 сентября 2011 г. в Нью-Йорке) террор мыслился как «репрессивный способ существования государства в условиях революции, как полная временная неразделенность политической и юридической власти, оправдываемая исключительными обстоятельствами».
Потребность в управлении посредством превентивного устрашения возникает тогда, когда ставится задача построения общества «тоталитарного» типа, ибо «тоталитаризм», по определению, лишен легитимной основы [Одесский, Фельдман, 1997]. Не будучи легитимным, «тоталитарный» лидер страшится в любой момент утратить свои полномочия их и поэтому готов предпринимать любые меры для удержания своей власти.
Приведенное утверждение применимо не только по отношению к правительству либо к первому руководителю страны, т.е. на макро-уровне. Оно «работает» и на микро-уровне. Тоталитарный руководитель университета, факультета, кафедры вуза, «дорвавшийся» до должности не на основе своих заслуг и поддержки коллектива, а исключительно под влиянием некоторых сторонних сил и обстоятельств, также боится потерять свою должность. И весьма велика вероятность, что такой начальник будет применять меры устрашения («психологический террор») по отношению к своим «инакомыслящим» подчиненным.
Но это уже отдельная, не столько историческая, сколько психологическая тема, и о ней речь в 3-й главе книги.
Специфика политики большевиков в 1917-1923 гг. состояла в установке, согласно которой люди подлежали уничтожению по самому факту принадлежности к определенным социальным слоям, кроме тех их представителей, кто «докажет делом» преданность советской власти.
Официальным началом Красного террора принято считать Декрет СНК от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре». Поводом к началу большевистского («красного» террора) стало покушение на В.И. Ленина еврейки Ф. Каплан и убийство эсером Л. Канегиссером ненавистного всем председателя Петроградского ЧК Моисея Урицкого, произошедших в один день – 30 августа 1918 г.
Определение понятия «красный террор» дает С.В. Волков в предисловии к своему сборнику «Красный террор глазами очевидцев». Под «красным террором» понимается широкомасштабная кампания репрессий большевиков, строившаяся по социальному признаку и направленная против тех сословий и социальных групп, которые они считали препятствием к достижению целей своей партии [Волков, 2009]. Люди, входящие в эти сословия или социальные группы заведомо (независимо от их вины) провозглашались классовыми врагами и обвинялись в контрреволюционной деятельности.
Можно утверждать, что объектом «красного террора», развязанного большевиками после прихода их к власти, изначально стал старый образовательный (интеллектуальный) слой российского общества.
Известно, что российский «образовательный слой» в большинстве своем встретил большевистскую революцию резко враждебно. Более того, это была единственная социальная группа, которая сразу же оказала большевизму активное сопротивление, в том числе вооруженное. Это происходило уже в то время (осень 1917 г. – зима 1918 г.), когда крестьянство и даже казачество оставались пассивны. Среди тех, кто оказывал сопротивление установлению большевистской диктатуры в стране, представители образованного «сословия», по данным С.В. Волкова, составляли до 80-90 %.
Большевики понимали, что их реальными противниками в гражданской войне были не мифические «капиталисты и помещики», а интеллигенция – в погонах и без погон. По свидетельству А.В. Луначарского, «русская интеллигенции оказалась на стороне врагов революции и рабочего класса.
[…] Революция тоже определила свое отношении к интеллигенции. Поскольку дело дошло до гражданской войны, нужно воевать. Это совершенно ясно: ни один настоящий революционер не скажет интеллигенту так – я позволю тебе стрелять в меня; я же в тебя стрелять не буду» (цитируется по [Волков, 1999]).
Поэтому режим «красного террора», официально введенный в сентябре 1918 г., во многом был направлен против «интеллектуалов». Сама принадлежность к образованному слою, соответствующая профессия, связанная с умственным трудом были достаточными основаниями для включения в число заложников, ареста и последующего расстрела. Об этом говорят многие приказы Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), высказывания ее руководителей Советского государства того времени.
Один из высших руководителей ВЧК М. Лацис (1888-1938 гг.), давая инструкции местным органам, указывал на необходимость руководствоваться при вынесении приговора профессией и образованием подозреваемых: «Не ищите в деле обвинительных улик; восстал ли он против Совета с оружием или на словах. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть Красного террора» (из статьи в журнале «Красный террор»: печатный орган ЧК Восточного фронта. Казань, 01.11.1918 г.).
В приказе ВЧК «Об учете специалистов и лиц, могущих являться заложниками» Ф.Э. Дзержинский подчеркивал, что заложниками должны быть «выдающиеся работники, ученые, родственники находящихся при власти у них лиц». В инструкциях местным органам советской власти по взятию заложников для расстрела указывался круг соответствующих профессий будущих жертв. Большевистские вожди смысл и цели террора видели в подавлении именно интеллигенции.
Лев Троцкий, один из руководителей Советской России, пишет в газете «Известия ВЦИК» от 10.01.1919 г.: «Террор как демонстрация силы и воли рабочего класса получит свое историческое оправдание именно в том факте, что пролетариату удалось сломить политическую волю интеллигенции».
И ученых, профессоров, преподавателей вузов власти брали в заложники, расстреливали в застенках.
Русский историк и политический деятель С.П. Мельгунов (1879-1956 гг.), высланный в 1922 г. из Советской России, в 1924 г. в Берлине издал свою книгу «Красный террор в России. 1918-1922». В этой книге С.П. Мельгунов, ссылаясь на публикацию проф. Sarolea в эдинбургской газетe «The Scotsman» за 07.11.1923 г., в числе иных погибших называет и «6000 профессоров и учителей» [Мельгунов, 1990, с. 65].
С.П. Мельгунов пишет, что автор не указывает источник этих данных. Достоверность приведенных цифр не может быть проверена и вызывает сомнения. Основания для сомнений мы находим у современного отечественного историка С.В. Волкова, которого трудно отнести к числу «ангажированных большевиками». Он пишет, что в 1916 г. в России учебный персонал вузов в сумме составлял всего 6655 человек [Волков, 1999, табл. 1].
Истинность приведенных потерь означала бы, что в живых осталось только 655 «старых» преподавателей вузов. Но в 1919 г., по данным С.В. Волкова, в России насчитывается 4000 (по другим данным – 1927) университетских преподавателей [Волков, 1999, глава 3, часть 1].
По мнению историка – современника событий, общая характеристика террора в России соответствует действительности. С.П. Мельгунов пишет, что среди примерно 1,7-1,8 млн. всех расстрелянных большевиками в эти годы (именно такие цифры получили широкое хождение в эмигрантской печати) «на лиц, принадлежащих к образованным слоям, приходится лишь 22 % (порядка 440 тысяч)» [Мельгунов, 1990, с. 87-88]. Но и это число жертв ужасает.
А с лета 1922 г. готовится и проводится операция, получившая в отечественной истории название «философский пароход».
«Философский пароход»: высылка интеллигенции
Драматические события, связанные с «философским пароходом» занимает особое место в истории России. Обстоятельства, связанные с высылкой за границу и частично в северные губернии России «активных контрреволюционных элементов» из среды «неугодной» интеллигенции. Поскольку среди инакомыслящих особо выделялись философы, возникло нарицательное словосочетание «философский пароход» [Главацкий, 2002]. Под этим названием эта акция и вошла в историю как символ репрессий 1922 г.
Тема насильственного изгнания интеллигенции почти семь десятилетий находилась в СССР под полным запретом. Но ее значимость для российского образования и гуманитарной науки столь велика, что даже спустя 90 лет она привлекает внимание всех тех, кого волнует судьба интеллигенции в России.
Подлинной причиной высылки интеллигенции являлась неуверенность руководителей советского государства в своей способности удержать власть после окончания Гражданской войны. Сменив политику военного коммунизма на новый экономический курс и разрешив в сфере экономики рыночные отношения и частную собственность, большевистское руководство понимало, что оживление мелкобуржуазных отношений неминуемо вызовет всплеск политических требований о свободе слова, а это представляло прямую угрозу власти вплоть до смены социального строя. Поэтому партийное руководство решило вынужденное временное отступление в экономике сопроводить политикой «закручивания гаек», беспощадным подавлением любых оппозиционных выступлений.
Для власти и карательного аппарата актуальной становится задача «наведения порядка», то есть обеспечения единомыслия, – в русле политики правящей партии, – в сфере культурной и научной жизни страны. И именно в этот момент «репрессивный аппарат обрушивается на тех, кто на заре революционных преобразований имел неосторожность осуждать социальные нововведения или дискутировать с большевиками относительно путей и форм создания новой социальной общности» [Абульханова-Славская и др., 1997, с. 50].
В дальнейшем, с молчаливого одобрения «верхних» этажей вертикали власти, уже и начальники разного масштаба, местные «унтеры-пришибеевы», будут жесточайшим образом подавлять малейшие ростки несогласия подчиненных со своей позицией, единственно правильной позицией его -«Босса»! И проводить свой «боссинг» такой начальник будет, опять же, прикрываясь задачей «наведения порядка» во вверенных ему подразделениях!
Замысел акции начал вызревать у лидеров большевиков еще зимой 1921-1922 г., когда они столкнулись с массовыми забастовками профессорско-преподавательского состава вузов и оживлением общественного движения в интеллигентской среде.
Теоретическое обоснование идеи высылки российской интеллигенции, а также и активное продвижение этой идеи, – как на документах убедительно показал М.Е. Главацкий, принадлежит В.И. Ленину [Главацкий, 2002]. В статье «О значении воинствующего материализма», законченной 12 марта 1922 г., В.И. Ленин открыто сформулировал идею высылки представителей интеллектуальной элиты страны. Уже 19 мая он направил секретное письмо Ф.Э. Дзержинскому с изложением инструкции по подготовке к высылке «контрреволюционных» писателей и профессоров.
Основную практическую работу по подготовке к высылке возложили на ГПУ, которое уже имело некоторый опыт [Высылка вместо …, 2005]. Так, еще в мае 1921 г. в целях выявления инакомыслящих в важнейших государственных учреждениях страны, в том числе в наркоматах и университетах, были созданы «бюро содействия» работе ВЧК. Их члены из числа партийных и советских руководителей (коммунисты с не менее чем 3-летним партийным стажем) собирали разнообразную информацию об антисоветских элементах в своих учреждениях. Кроме того, в их обязанности входило наблюдение за проведением съездов, собраний и конференций, в том числе научных.
При негласной помощи «бюро содействия» с целью формирования и уточнения списков высылаемых чекисты опрашивали руководителей наркоматов, секретарей партийных ячеек вузов, научных учреждений, партийных литераторов.
В июне – июле 1922 г. в стране фактически было покончено с активной политической оппозицией (в это время состоялся суд над социалистами-революционерами, в результате которого из страны были высланы лидеры эсеров и меньшевиков). И, несмотря на то, что большой политической угрозы интеллигенция не представляла, тем не менее, решением вопроса о судьбе русских ученых занимались первые лица государства.
2 июня 1922 г. официальный печатный орган правящей партии газета «Правда» публикует статью Льва Троцкого под названием «Диктатура, где твой хлыст?», в которой уже ставится вопрос о необходимости «разобраться» с теми, кто имел свою точку зрения на происходящее в стране Советов.
16 июля Ленин из подмосковных Горок, где лечился после инсульта, в письме Сталину выразил обеспокоенность проволочкой в деле высылки инакомыслящих. «Комиссия … должна представить списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно, – указывал Владимир Ильич. – Очистим Россию надолго». Предупреждал, что «делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, не позже. Арестовывать… без объявления мотивов – выезжайте, господа!» [Ленин, 2000, с. 544-545].
С этой целью на XII Всероссийской конференции РКП(б), проходившей с 4 по 7 августа 1922 г., был поднят вопрос об активизации деятельности антисоветских партий и течений. В резолюции по докладу Г.Е. Зиновьева указывалось, что нельзя отказаться и от применения репрессий по отношению к мнимо беспартийной, буржуазно-демократической интеллигенции, говорилось, что о для нее подлинные интересы науки, техники, педагогики и т.д. являются только пустым словом, политическим прикрытием. Резолюция была доведена до населения центральными и местными газетами. Теперь можно было продолжить акцию.
«Операция» против инакомыслящих представляла собой не одномоментное действие, а серию последовательных акций. Можно выделить следующие ее основные этапы: 1) аресты и административные ссылки врачей, участников 2-го Всероссийского съезда врачебных секций – 27-28 июня; 2) репрессии вузовской профессуры – 16-18 августа; 3) «профилактические» мероприятия в отношении «буржуазного» студенчества – в ночь с 31 августа на 1 сентября 1922 г.
Основную репрессивную операцию провели в ночные часы 16-18 августа. Среди заключенных в тюрьмы ГПУ или оставленных под домашним арестом оказались известнейшие философы, социологи, профессора вузов, писатели, математики, инженеры, врачи. Все они были допрошены или дали ответы на заранее подготовленные вопросы об отношении к советской власти и проводимой большевиками политике. В основном, никто из арестованных против власти не выступал. Однако, будучи людьми мыслящими, они и не думали скрывать свое отношение к ней. Большинство подследственных считало, что отрыв от родной почвы для русской интеллигенции является весьма болезненным и вредным, а основная ее задача – содействие распространению в стране научных знаний и просвещения, в котором нуждаются все слои общества.
С арестованных были взяты две подписки: обязательство не возвращаться в советскую Россию и выехать за границу за свой (при наличии собственных средств) или за казенный счет. «Исключение» было сделано для врачей: согласно принятому ранее решению Политбюро ЦК РКП(б), они подлежали высылке не за границу, а во внутренние голодающие губернии для спасения гибнущего населения и борьбы с эпидемиями.