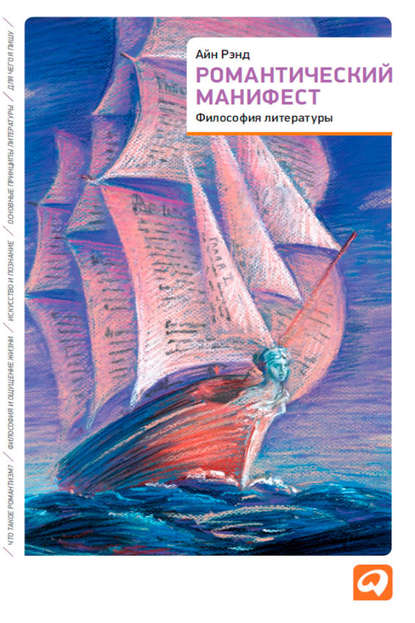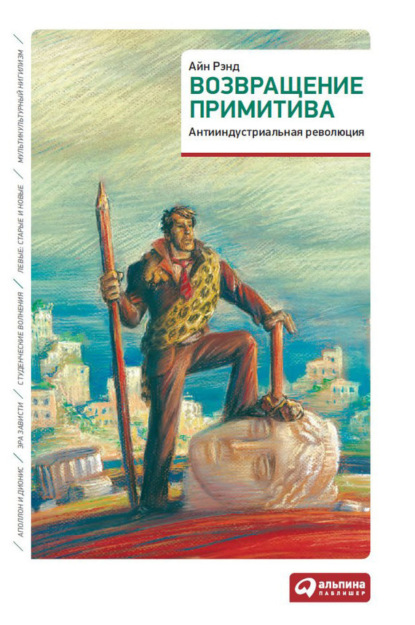Полная версия
Атлант расправил плечи
– Мы по-прежнему остаемся лучшей железной дорогой страны. Дела других компаний складываются много хуже.
– Значит, ты хочешь, чтобы мы оставались в дыре?
– Я не говорил этого! Почему ты всегда все упрощаешь? И если тебя так волнуют деньги, не понимаю, почему ты так рвешься потратить их на линию Рио-Норте, когда компания «Феникс-Дуранго» нагло отобрала у нас все перевозки по ней. Зачем тратить деньги там, где у нас нет защиты от конкурента, способного воспользоваться нашими вложениями?
– Потому что «Феникс-Дуранго» – отличная компания, но я намерена сделать линию Рио-Норте еще лучше. Потому что я рассчитываю победить «Феникс-Дуранго» – но только если это станет необходимо, потому что в Колорадо хватит места не только двум, но и трем железнодорожным компаниям. Потому что я готова заложить всю дорогу, чтобы построить ветку, выходящую поближе к месторождению Эллиса Уайэтта.
– Меня тошнит от одного имени Эллиса Уайэтта.
Таггерту совсем не понравился взгляд Дагни.
– Я не вижу необходимости в немедленных действиях, – проговорил он обиженным тоном. – Например, почему ты считаешь настоящее положение «Таггерт Трансконтинентал» настолько уж тревожным?
– Из-за твоей политики, Джим.
– Какой политики?
– Во-первых этого тринадцатимесячного эксперимента с «Ассошиэйтед Стил». И во-вторых, твоей мексиканской катастрофы.
– Правление одобрило контракт с «Ассошиэйтед Стил», – торопливо проговорил он. – Правление проголосовало и за строительство линии Сан-Себастьян. К тому же я не понимаю, почему ты называешь это решение катастрофой.
– Потому что мексиканское правительство готово в любой момент национализировать твою линию.
– Это ложь! – Он едва не кричал. – Это просто злобные сплетни! Опираясь на совершенно надежный внутренний источник, я готов…
– Не надо демонстрировать свой испуг, Джим, – презрительно бросила Дагни.
Он промолчал.
– Сейчас паниковать бесполезно, – сказала она. – Мы можем только попытаться смягчить удар. А он будет крепким. От потери сорока миллионов долларов легко не оправишься. Однако «Таггерт Трансконтинентал» пришлось выдержать в прошлом много ударов, и я позабочусь, чтобы наша компания выдержала и этот.
– Я отказываюсь, просто отказываюсь обсуждать саму возможность национализации линии Сан-Себастьян!
– Отлично. Значит, мы ее не обсуждаем.
Она молчала. И он заговорил, тщательно взвешивая каждое слово.
– Не понимаю, почему ты так стремишься предоставить шанс Эллису Уайэтту, однако считаешь ошибкой участие в развитии бедной страны, которая никогда не получит такого шанса.
– Эллис Уайэтт никого не просил предоставить ему шанс. Потом, предоставлять шансы не мое дело. Я руковожу железной дорогой.
– На мой взгляд, это чрезвычайно узкая точка зрения. И мне непонятно, почему мы должны помогать одному человеку, а не целой стране.
– Помощь кому бы то ни было меня не интересует. Я хочу делать деньги.
– Это негодная позиция. Эгоистичная жажда личной выгоды отошла в прошлое. Сегодня все знают, что интересам общества в целом всегда следует отдавать предпочтение в любом деловом предприятии, которое…
– И как долго ты будешь еще уклоняться от принятия решения, Джим?
– Какого решения?
– Относительно заказа на риарден-металл.
Таггерт не отвечал. Он молча разглядывал сестру. Ей было трудно скрывать усталость, но гордую осанку подчеркивала прямая, четкая линия плеч, а плечи удерживало усилие воли, рожденное сознанием собственной правоты. Лицо ее нравилось немногим: оно было слишком холодным, а глаза чересчур внимательными и строгими; ничто и никогда не могло смягчить их взгляд. Точеные ноги раздражали Таггерта, поскольку никак не соответствовали столь неженственному образу.
Она молчала, и ему пришлось спросить:
– Ты сделала этот заказ, повинуясь минутному настроению, по телефону?
– Я приняла это решение полгода назад. И ждала, когда Хэнк Риарден запустит сплав в производство.
– Не зови Риардена Хэнком. Это вульгарно.
– Так все его называют. И не отклоняйся от темы.
– Почему тебе пришлось звонить ему по телефону вчера вечером?
– Нужно было поскорее договориться.
– Разве ты не могла подождать, пока не вернешься в Нью-Йорк, и тогда…
– Потому что я видела линию Рио-Норте.
– Ну мне необходимо время, чтобы подумать, поставить вопрос перед правлением, обратиться к лучшим…
– Времени нет.
– Ты не даешь мне возможности сосредоточиться, составить собственное мнение о…
– Твое мнение меня не интересует. Я не намерена спорить с тобой, твоим правлением или профессорами. Ты должен сделать выбор, и ты сделаешь его прямо сейчас. Просто скажешь «да» или «нет».
– Это совершенно нелепый, полный произвола и высокомерия способ ведения дел…
– Да или нет?
– Вечно с тобой одна и та же история. Тебе все хочется разделить на белое и черное. Но мир устроен совсем не так. В нем нет ничего абсолютного.
– Кроме металлических рельсов. Или мы покупаем их, или нет.
Она ждала. Таггерт безмолвствовал.
– Ну? – спросила она.
– Ты берешь ответственность на себя?
– Беру.
– Тогда действуй, – проговорил он и поспешно добавил: – только на собственный страх и риск. Я не стану отменять твое соглашение с Риарденом, но и не стану защищать его на заседании правления.
– Дело твое.
Дагни поднялась, чтобы уйти. Таггерт склонился над столом, явно не решаясь закончить встречу столь резко.
– Ты, конечно, понимаешь, что для проведения решения потребуется более продолжительная процедура, – сказал он, чуть ли не с надеждой в голосе. – Одним разговором со мной ты не отделаешься.
– O конечно, – проговорила она. – Я пришлю тебе подробный отчет, который подготовит Эдди и который ты читать не будешь. Эдди поможет тебе провести его по инстанциям. Сегодня вечером я отправляюсь в Филадельфию на встречу с Риарденом. Нам с ним придется как следует потрудиться, – и добавила: – Все просто, Джим.
Она уже повернулась, чтобы уйти, когда он заговорил снова, и слова его казались совершенно не относящимися к делу:
– Тебе все сходит с рук, потому что тебе везет. Другим это не удается.
– Что не удается?
– Другие люди устроены, как полагается людям. У них есть чувства. Они не могут посвятить всю свою жизнь металлам и двигателям. Тебе повезло – чувств у тебя нет никаких. И никогда не было.
Она поглядела на него, и удивление в ее серых глазах сменилось спокойствием, а потом странным выражением, скорее напоминавшим усталость, если не считать того, что читалось в нем нечто большее, чем просто принятие истины настоящего момента.
– Да, Джим, – ответила она негромко, – действительно, чувств у меня нет и никогда не было.
Эдди Уиллерс проводил Дагни в ее кабинет. Она вернулась, и он ощутил, что мир сделался ясным, простым и вполне приемлемым и что можно забыть о смятении и неопределенности. Лишь он один находил вполне естественным то, что Дагни – женщина – занимает пост исполнительного вице-президента огромной железнодорожной компании. Еще когда ему было десять лет, она заявила, что когда-нибудь будет управлять дорогой. И теперь свершившийся факт удивлял его ничуть не больше обещания, данного некогда на лесной поляне.
Когда они оказались в ее кабинете, когда она села за стол и бросила взгляд на приготовленные им бумаги, Эдди почувствовал себя как в собственной машине: двигатель уже заработал, колеса готовы рвануться вперед.
Он уже собрался уйти, когда вспомнил, что не доложил об одном деле.
– Оуэн Келлог из Вокзального отдела просил принять его.
Она удивленно вскинула глаза.
– Забавно. А я как раз собиралась вызвать его. Пусть войдет. Он мне нужен…
– Эдди, – добавила она вдруг, – прежде чем я займусь делами, попроси, чтобы меня связали по телефону с Эйерсом из «Эйерс Мьюзик Паблишинг Компани».
– Музыкальным издательством? – с недоумением повторил он.
– Да. У меня есть к нему один вопрос.
Когда любезный голос мистера Эйерса осведомился о той услуге, которую может оказать ей, она спросила:
– Скажите мне, не написал ли Ричард Халлей новый, Пятый концерт для фортепьяно с оркестром?
– Пятый концерт, мисс Таггерт? Нет, конечно же, нет.
– Вы уверены в этом?
– Совершенно уверен, мисс Таггерт. Он не писал ничего уже восемь лет.
– Так, значит, он жив?
– Ну да… то есть я не могу гарантировать этого, он совершенно удалился от общества, но не сомневаюсь, о его смерти мы бы обязательно услышали.
– И если бы он что-нибудь написал, вы, конечно, узнали бы об этом?
– Конечно. Причем первыми. Мы публиковали все его произведения. Но он прекратил писать.
– Понимаю. Благодарю вас.
Когда Оуэн Келлог вошел в ее кабинет, Дагни посмотрела на него с удовлетворением. Ей было приятно, что она правильно запомнила его внешность, – лицо его напоминало молодого кондуктора, это было лицо человека, с которым она была готова иметь дело.
– Садитесь, мистер Келлог, – предложила она, однако он остался стоять перед ее столом.
– Когда-то вы спрашивали, не хочу ли я изменить свое служебное положение, мисс Таггерт, – проговорил он, – поэтому я пришел к вам с просьбой уволить меня.
Она ожидала услышать что угодно, но только не это; после мгновенного замешательства она спросила:
– Почему?
– По личным причинам.
– Вы чем-то не удовлетворены?
– Нет.
– Вы получили лучшее предложение?
– Нет.
– На какую железную дорогу вы переходите?
– Я не собираюсь работать на железной дороге, мисс Таггерт.
– Тогда какую же работу вы подыскали себе?
– Я еще не принял решения.
Дагни с некоторой неловкостью рассматривала его. На лице его не было никакой вражды; он смотрел ей в глаза, отвечал просто и прямо; говорил как человек, которому нечего скрывать или выдумывать; вежливое лицо было нейтральным.
– Тогда почему вы решили уволиться?
– Это мое личное дело.
– Вы заболели? У вас неприятности со здоровьем?
– Нет.
– Вы хотите покинуть город?
– Нет.
– Вам досталось наследство, которое позволяет вам отойти от дел?
– Нет.
– Вы намереваетесь продолжать зарабатывать на жизнь?
– Да.
– Но вы не хотите работать на «Таггерт Трансконтинентал»?
– Не хочу.
– В таком случае здесь должно было случиться нечто, определившее ваше решение. Что именно?
– Ничего, мисс Таггерт.
– Я хочу, чтобы вы рассказали мне все. У меня есть причины знать.
– Поверите ли вы мне на слово, мисс Таггерт?
– Да.
– Никакое лицо, дело или событие, связанное с моей работой у вас, не оказало никакого влияния на мое решение.
– Итак, у вас нет никаких претензий к «Таггерт Трансконтинентал»?
– Никаких.
– Но, может быть, вы передумаете, когда услышите о том, что намереваюсь предложить вам я.
– Простите, мисс Таггерт. Я не могу этого сделать.
– Может быть, я все-таки сделаю вам свое предложение?
– Да, если вам угодно.
– Поверите ли вы мне на слово, если я скажу, что решила предложить вам некий пост еще до того, как вы попросили меня принять вас? Я хочу, чтобы вы знали это.
– Я всегда верю вам на слово, мисс Таггерт.
– Я хочу предложить вам место управляющего отделением Огайо нашей дороги. Если хотите, оно – ваше.
На лице Келлога не отразилось никакой реакции, слова эти, похоже, значили для него не больше, чем для дикаря, никогда не слыхавшего о железной дороге.
– Я не хочу этого места, мисс Таггерт, – просто ответил он.
Сделав паузу, она проговорила напряженным голосом:
– Назовите свои условия, Келлог. Скажите, сколько вы хотите получать, вы нужны мне. Я могу дать вам больше, чем предложит любая другая железная дорога.
– Я не намереваюсь работать на железных дорогах.
– Мне казалось, вы любите свою работу.
За время этого разговора он впервые обнаружил какие-то признаки чувств: глаза его чуть расширились, и со странным тихим упорством в голосе он ответил:
– Люблю.
– Тогда скажите мне, чем я могу удержать вас? – слова эти прозвучали столь непосредственно и откровенно, что явно проняли его.
– Наверно, я поступил неправильно, явившись к вам с просьбой об увольнении, мисс Таггерт. Я понимаю, что вы хотели услышать от меня причины моего решения, чтобы сделать мне контрпредложение. Поэтому мое появление здесь выглядит так, будто я готов к сделке. Но это не так. Я пришел к вам только потому что… потому что хотел сдержать свое слово.
Внезапная пауза, словно мгновение озарения, открыла Дагни, как много значили для Келлога ее интерес и просьба и что решение далось ему не просто.
– Послушайте, Келлог, неужели мне нечего предложить вам? – спросила она.
– Нечего, мисс Таггерт. Увы, ничего.
Он повернулся, чтобы уйти. И впервые в жизни Дагни ощутила свое поражение и беспомощность.
– Но почему? – спросила она, обращаясь в пространство.
Молодой человек остановился, пожал плечами и улыбнулся. На мгновение он словно ожил, и более странной улыбки ей еще не приходилось видеть: в ней было и тайное веселье, и сердечный надлом, и бесконечная горечь. Он ответил вопросом:
– А кто такой Джон Голт?
ГЛАВА II. ЦЕПЬ
Все началось с нескольких огоньков. Когда поезд линии «Таггерт» подъезжал к Филадельфии, в темноте появилась редкая россыпь ослепительных огней. Они казались бессмысленными на пустынной равнине, но были слишком яркими, чтобы не иметь значения. Пассажиры лениво, без особого интереса смотрели на них.
Затем появился черный силуэт строения, едва угадывавшийся на фоне неба, потом возле путей выросло высокое здание; в окнах его не было света, и отражения освещенных вагонов скользили по стеклам.
Встречный товарный поезд закрыл собой окна, залив вагон торопливой кляксой шума. В промежутках между вагонами пассажиры могли разглядеть силуэты далеких зданий, вырисовывавшихся на красноватом горизонте. Багровое зарево неровно пульсировало, словно бы дома дышали.
Когда поезд промчался, пассажиры увидели угловатые здания, окутанные кольцами пара. Лучи нескольких сильных прожекторов нарезали кольца дольками. Пар был пурпурным, как и небо.
Далее появилось нечто, похожее, скорее, не на здание, а на оболочку из стеклянных шахматных клеток, охватывавшую балки, краны и фермы единой ослепительной полосой огня.
Пассажиры не могли осознать всей сложности этого протянувшегося на мили города, работавшего, не обнаруживая признаков человеческого присутствия. Перед ними вырастали башни, похожие на скрученные небоскребы, повисшие в воздухе мосты, в стенах виднелись раны, извергавшие огонь. Потом сквозь ночь поползла вереница багровых цилиндров; это горел раскаленный металл.
Возле путей появилось конторское здание. Крупное неоновое панно на его крыше осветило внутренности пролетавших мимо вагонов. Оно гласило: РИАРДЕН СТИЛ.
Один из пассажиров, профессор экономики, обратился к своему спутнику: «Какое значение имеет отдельная личность в титанических коллективных достижениях нашего индустриального века?»
Другой, журналист, уже вносил в свой блокнот заметку для будущей статьи: «Хэнк Риарден принадлежит к той разновидности людей, которые лепят свое имя на все, к чему прикасаются. Уже из этой фразы читатель может составить представление о характере Хэнка Риардена».
Поезд все спешил во тьму, когда за длинным зданием рванулся к небу язык красного пламени. Пассажиры не обратили на вспышку никакого внимания; новую плавку, разлив раскаленного металла никак нельзя было отнести к числу событий, которые их учили замечать.
Это была первая плавка риарден-металла, первый заказ на него.
Прорыв жидкого металла на волю казался подобием наступившего вдруг утра для людей, стоявших у жерла печи. Хлынувший раскаленный добела поток металла светился чистым, солнечным огнем. Облака черного пара, подсвеченного багрянцем, клубились над печью. Неровными вспышками рассыпались фонтаны искр, казавшихся каплями крови, вытекающей из разорванной артерии. Воздух был растерзан в клочья, он обдавал ярым пламенем, красные пятна кружили и рвались вон из пространства, словно не желая оставаться внутри созданной человеком конструкции, словно стремясь разрушить колонны, балки, мосты кранов над головой. Однако металл не обнаруживал никакой агрессивности. Длинная белая полоса напоминала атлас и празднично блестела. Она покорно текла из глиняного устья между двумя хрупкими берегами. А потом падала на двадцать футов вниз, в ковш, вмещавший две сотни тонн металла. Поток рассыпал звезды, выпрыгивавшие из его ровной глади и казавшиеся столь же ласковыми и невинными, как искры, брызжущие из детских бенгальских огней.
Только в самой близи становилось заметно, что белый атлас кипит. Время от времени из него вылетали брызги, падавшие на землю у желоба; жидкий металл, соприкасаясь с землей, остывал, вспыхивая огнем.
Две сотни тонн металла, более твердого, чем сталь, и ставшего жидким при температуре четыре тысячи градусов, могли разрушить любую стену здания, убить всех, кто работал возле потока. Однако каждый дюйм его пути, каждая молекула были покорны воле изобретателя.
Мечущийся под навесом красный свет выхватывал из темноты лицо человека, застывшего в дальнем углу. Прислонившись к колонне, он ждал. Яркая вспышка на мгновение бросила отблеск света в его глаза, цветом и видом напоминавшие голубой лед, потом на черное переплетение металла колонны и пепельные пряди его волос, потом на пояс спортивного плаща и карманы, в которых он держал руки. Высокий и стройный, он всегда превосходил ростом окружающих. Лицо его состояло из выступающих скул и нескольких резких морщин, оставленных, однако, не старостью. Так было всегда, и потому в молодости он казался старым, а сейчас, в сорок пять, молодым.
Насколько он помнил, ему всегда твердили, что лицо его уродливо – потому что было оно неподатливым и жестким. Оно ничего не выражало и теперь, когда он смотрел на льющийся металл. Это был Хэнк Риарден.
Металл поднимался к краю ковша и щедро переливался через край. Ослепительно-белые струйки быстро темнели, a еще через мгновение превращались в готовые отломиться черные металлические сосульки. Шлак застывал толстыми бурыми гребнями, похожими на земную кору. Корка толстела, в ней вскрывались редкие трещины, внутри все еще кипела расплавленная масса.
Высоко в воздухе проплыла кабина крана. Непринужденным движением руки крановщик двинул рычажок: подвешенные на цепи стальные крючья опустились вниз, подцепили ручки ковша, аккуратно, словно ведерко с молоком, подняли две сотни тонн металла и понесли к ряду форм, ждавших, когда их наполнят.
Хэнк Риарден откинулся назад и закрыл глаза. Колонна за спиной его подрагивала в такт движениям крана. Работа окончена, подумал он.
Заметивший его рабочий одобрительно ухмыльнулся, как собрат и участник великого праздника, знавший, почему высокий белокурый человек должен был оказаться здесь в этот момент. Риарден улыбнулся в ответ и направился в свой кабинет, вновь превратившись в наделенного невыразительным лицом человека.
В тот вечер Хэнк Риарден поздно оставил свой кабинет. От завода до дома было несколько миль по безлюдной местности, однако ему хотелось пройтись – без особых на то причин.
Он шел, опустив руку в карман, не выпуская браслет в виде цепочки, сделанный из риарден-металла. Десять лет его жизни ушли на то, чтобы сделать этот браслет. Десять лет, подумал он, долгий срок. Вдоль темной дороги выстроились деревья. Всякий раз, поглядев вверх, он замечал несколько листьев на фоне звездного неба; сухие и скрученные, они были готовы упасть на землю.
В окнах разбросанных по сельской местности домов светились огоньки, делавшие, как ни странно, дорогу еще более пустынной.
Риарден никогда на ощущал одиночества, кроме тех мгновений, когда бывал счастлив. Он оглядывался на багровое зарево, стоявшее над заводом. Он не думал о прошедших десяти годах. Сегодня от них осталось неясное послевкусие, которому он не мог дать имени или определения, но его чувства были умиротворенными и торжественными. Чувство это являло собой известную сумму, и ему не нужно было считать слагаемые, из которых она состояла. Это были ночи, проведенные возле пышущих жаром печей исследовательской лаборатории завода… ночи, проведенные в его домашнем кабинете над заполненными формулами листами бумаги, разлетавшимися в клочья после очередной неудачи… дни, когда молодые ученые, составлявшие тот небольшой штаб, который он избрал себе в помощь, истощив собственную изобретательность, ожидали от него инструкций, как солдаты, готовые к безнадежной битве, еще способные сопротивляться, но уже притихшие, будто в воздухе висел непроизнесенный приговор: мистер Риарден, этого сделать нельзя… трапезы, прерванные и забытые после очередного озарения, после мысли, которую следовало немедленно проверить, испробовать, положить в основание растянувшихся на месяцы и месяцы работ, a потом отвергнуть после очередной неудачи… мгновения, отнятые от конференций, от контрактов, от обязанностей директора лучшего сталелитейного завода страны, оторванные едва ли не с виноватой улыбкой, как от тайной любви… и единственная мысль, растянувшаяся на десять лет, пронизывавшая все, что он делал, все, что он видел, мысль, возникавшая в его уме всякий раз, когда он смотрел на городские дома, на колею железной дороги, на свет в окнах далекого сельского дома, на нож в руках красавицы, разрезавшей фрукты на банкете, мысль о сплаве металлов, который будет способен на то, что выходит за пределы возможностей стали, металле, который станет для стали тем, чем стала она сама для железа… мгновения самобичевания, когда он отвергал надежду или образец, не позволяя себе ощутить усталость, не давая себе времени на это, заставляя себя испытывать мучительную неудовлетворенность… продвижение вперед, не имевшее другого мотора, кроме уверенности в том, что это можно сделать… и, наконец, день, когда это было сделано, и результат его трудов получил название риарден-металла… Все это сейчас в белом огне плавилось и смешивалось в его душе, и сплав этот превращался в странное и спокойное ощущение, которое заставляло его улыбаться на этой темной загородной дороге и удивляться тому, что счастье может ранить.
Потом он понял, что прошлое представляется ему в виде разложенных перед ним дней, требующих просмотра. Он не хотел этого делать; он презирал воспоминания, видя в них бесцельное потворство собственным желаниям. И все же, решил он, сегодня прошлое раскрылось перед ним в честь того металлического изделия, что сейчас находится в его кармане. И он позволил себе погрузиться в воспоминания.
Риарден увидел себя на гребне скалы, вспомнил струйку пота, стекавшую с его виска на шею. Ему было тогда четырнадцать лет, шел первый день его работы на железном руднике в Миннесоте. Он пытался научиться преодолевать жгучую боль в груди и стоял, ругая себя, потому что заранее решил заставить себя не устать. Потом он вернулся к работе, потому что боль, на его взгляд, не была достаточной причиной, чтобы прекращать дело. Он увидел еще один день, когда стоял возле окна своего кабинета и смотрел на тот же рудник, который приобрел в тот самый день. Ему было тридцать лет. И неважно, чем занимался он в прошедшие годы, как ничего не значила и давняя боль. Продвигаясь к намеченной цели, он работал на рудниках, сталелитейных заводах, металлургических комбинатах севера страны. Об этих своих работах он помнил лишь то, что окружавшие его люди, похоже, никогда не знали, что делать, в то время как он всегда имел четкое представление обо всем. Он вспомнил, что всегда удивлялся тому, как много рудников вокруг закрывается, впрочем, собирались закрыть и приобретенный им рудник. Он посмотрел на высившиеся вдали скалы. Рабочие устанавливали над воротами в конце дороги новую вывеску: Руда Риардена.
Он увидел другой вечер и себя самого, сгорбившегося над столом в том самом кабинете.
Было поздно, и служащие уже отправились по домам, так что он имел полную возможность расслабиться без свидетелей. Он устал. Казалось, что он состязался с собственным телом, и все утомление предшествующих лет, в котором он отказывался признаться себе, разом обрушилось на него и придавило к креслу. Он не ощущал ничего, даже желания двигаться. Он не ощущал в себе сил ни на что – даже на страдание. Он выжег в себе все, что могло гореть; он, рассыпавший вокруг себя столько искр, затевая новые дела, теперь гадал, найдется ли кто-нибудь, способный заронить в него самого ту искру, в которой он так отчаянно нуждался именно в этот момент, когда он не ощущал в себе возможности шевельнуться. Он спросил себя: кто привел его в движение и не позволил остановиться? И тогда он поднял голову. Неторопливо, величайшим в своей жизни усилием он заставил себя разогнуться, сесть прямо, опустив руку на стол, поддерживая тело другой дрожащей ладонью.