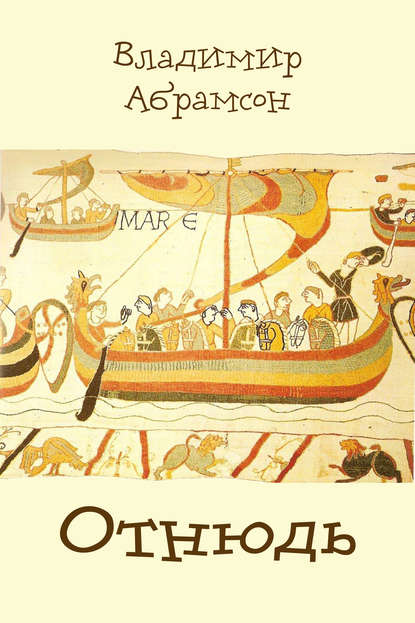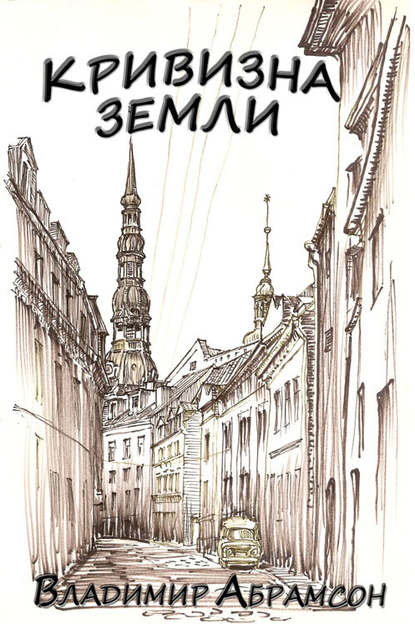
Полная версия
Кривизна Земли
Прошлась по бутикам и оценила «диндрл». Немецкий деревенский убор, простенькая вышитая кофта, юбка до пола и непременно нарядный цветной фартук с поясом. Если завязан бантом слева – замужняя. Если справа, старайся понравиться. Нижняя юбка длиннее верхней, из – под подола белые кружева. Откровенно и нежно обнажив грудь, немецкий низкий лиф сделал ее большой и мягкой, вопреки католическому ханжеству, тридцатилетней войне, аскезе Лютера. В ее годы смело для Москвы, разве что на дачу. Шагнешь по лестнице, или грязь на дороге – приподнять юбку, очень женственно. И отвечает образу милой, доброй, полнеющей и, увы, стареющей блондинки, который она для себя примеряла на будущее.
Таня прилепилась к бару на набережной. Днем он пустовал. Она заказывала опасное при ее полноте пиво. Молчала у окна. Видно Эльбу, прогулочные и большие пароходы и пузатые буксиры движутся медленно, будто на старом экране. Бармен принял за иностранку, не знающую по-немецки и сказал официанту:
– Понаехали тут всякие.
Обедал пожилой среброголовый немец. Ел красиво, видна порода и семья. Заговорил с Таней и, услышав легкий акцент, расспрашивал о Москве. Рассказывал о гамбургских кабаре, в них соль народного характера. В одном из них начинали в шестидесятые годы четыре мальчика из Ливерпуля – битлз.
Предложил встретиться завтра вечером.
– Встретимся в этом баре. Я – Хорст. Журнальный фотограф.
– Ищете див для обложки? Я не фотогенична.
– Нет. Любуюсь вами.
«В моем возрасте мужское внимание как бальзам» – думала меж тем Таня. И охотно согласилась.
Предложение было неожиданным – Reeperbahn – Рипербан по-русски.
– Главная городская достопримечательность – сказал Хорст.
Таня думала красться в гнездо порока по пустынным улицам, под красными фонарями. Вечером от станции метро «Рипербан» катила в тот самый квартал тысячная толпа мужчин. Женщины в джинсах, иностранцев много. Шли по асфальту и тротуарам во всю ширину улицы. Кто же их… обслужит, думала Таня. Дома неказистые, как забытые детские кубики. Но море блеска и огня реклам. И жрицы, действительно, кое-где стоят и прогуливаются. Профсоюз немецких проституток не объявляет забастовок. Где печать вульгарного порока? Толпа постепенно редеет в клубы, дома свиданий, секс-шопы, театр «Тиволи», ему почти сто лет. Пивная, тоже можно познакомиться. Шутя и всерьез торговаться о продолжительности и манере… сеанса. О цене. Деревянная лестница во второй этаж в свободные комнаты. Пьяных не видно, не торгуют подозрительно марихуаной.
Они перешли улицу у «Эротик бутик», дорогого европейского секс – шопа. Таня в нахлынувшем молодом веселье рассматривала витрины. Шли под тысячей рекламных грудей и задов. В огнях реклам казино, биллиардных, гей-клубов, отелей с комнатами на четыре часа. Мимо бомжей с матросскими наколками на руках. В бесконечных «Живых шоу» – блондинки под Мерилин Монро. Бедная Мерилин, ты открыла сундук Пандоры и сама погибла.
На известной улице, действительно, сидят за стеклянными витринами женщины, вяжут, полируют ногти в ожидании. Затем гаснет свет. Полицейский остановил Таню, на эту улицу вход женщинам воспрещен. Бывает, из мезонина водой обольют. Или еще чем… Неуютно Тане. Не по-нашему, машинерия. Протиснулись в кабаре «Мата Хари», Хорст совсем как в Москве, дал швейцару «на лапу», посетителей полно.
Итак, два ковбоя (красавцы, хорошие голоса) узнают о мешке золота в индейском племени. Индианки – кордебалет, роскошные костюмы и перья радугой. Прима влюблена в ковбоя и пытается соблазнить – танец соло. Ковбои спасаются в женском монастыре. Поют о родных просторах: «О Роз-Мари, о Мэри, / Цветок душистый прерий,/ Твои глаза как небо голубое / Родных степей веселого ковбоя!.. Тем временем настоятельница – (гран – дама, сопрано) убегает с комическим любовником. Монахини дружно сбрасывают черные робы и канкан в чем мать родила, почти. Ковбои побеждаю индейцев и старый вождь (бас) проглатывает золото. Но ковбои поят его касторкой и под аплодисменты возят по залу на унитазе. Только и всего, Таня ушла помолодевшей. Поцеловала Хорста, но не так. Он понял.
Обязательный на пути Пивной сад. Разносят «масс», тяжелые кружки пива. К пиву идет «хаксен», всенародно почитаемая и обожаемая свиная ножка. Американка за соседним столом спросила по-английски. Любезный официант не понял. Поразмыслив, американка сказала хрю-хрю, завернула платье и показала бедро. В Гамбурге, в районе Санкт Паули на улице Рипербан никто не рассмеялся. То ли здесь видели.
Vielen Dank, Reeperbahn. Und lebe wohl. Спасибо, Рипербан. И прощай.
Они поплелись, поддерживая друг друга от усталости, вдоль спящих пароходов. Эльба раскачивала темные яхты миллионеров.
Рыбный рынок открыт в четыре часа утра. Сели за столик и ели свежайшую сельд. Громогласный, видный мужик продает рыбу корзинами. Корзина еще пуста, и торговец объявил ей цену. На глазах домохозяек и туристов снисходительно бросает рыбу за рыбой, медлит… еще вот эту. Корзина наполняется. Его шутки и речевки на злобу гамбургского дня невозможно перевести. Немцы смеются, туристы спрашивают – что он сказал? Продавец с наигранным сожалением бросает рыбу в уже полную корзину.
– Корзина продана женщине в белой юбке, отличная покупка для вас, уважаемая фрау.
Простая радость жизни.
Ночью в валиной комнатушке Таня была с мужем. С его наивной и плоской душой. Твердо – благородной. Простая душа, не умеющая учиться, упорно далекая. Таня не помнила его страсти. О Кате в Саломбале она знала. Однажды летом обошла по деревянному тротуару, утонувшему в песке и пыли, ее дом. Жарко пахло нагретым деревом, в пыли рылась собака. На крыльцо вышла старая женщина, смотрела на городскую Таню. Злорадно, предвкушая скандал, усмехнулась:
– Дома Катя, дома! – Таня ушла.
С Хорстом гуляли в сладкой тишине высоких дюн. Сосновая кора отливала красной медью. Шли по песчаной дороге в мелькании света и теней деревьев, в настое хвои и смолы. Уносимая жарким летом, и осенью своей жизни, Таня решилась.
Небольшая квартира Хорста за озером в Альтоне, в трех этажах. Сплошной белый модерн. На стене по лестнице одна выше другой черно-белые фотографии мужчин, женщин в одиноком тихом раздумье. Много раз – усталая актриса в сценических костюмах. Потом грустные звери и зверята. Обойдя по крутой лестнице, Таня не обнаружила за стеклянными плоскостями и керамическими абстракциями и тени жилого. Гарсоньерка.
Хорст упомянул, что трижды был неудачно женат. В первые семейные недели думал: с этой женщиной связан до последней земной минуты. С ней он простится перед вечностью. Через год кружева на белье казались нечистой чешуей. И это, в общем трагично.
Непринужденно и тонко он заговорил о сексе. Под локоть вовлек в ванную комнату.
– Я видел столько раздетых женщин, что меня волнует, когда они одеваются. – Хорст вышел. Умная Таня поняла – ее ждут голой. Она же привыкла к иному. ОН – подробно о самом себе. О комплексах и горестях, с жалобами на холодно – леденящую жену. Карьера не удалась – «я слишком порядочен». Нужно активно сострадать. Потом о ЕГО женщинах с юношеских лет, и немного о собеседнице. ЕГО надо пожалеть, а уж потом. Впрочем, привыкать было не к чему, пара сексуальных приключений за всю Танину женскую жизнь. Она не знала, с глобализацией этот путь стал короче. Таня увидела нечто светло – болотно-зеленое и воздушно – ночное. Щадящий вариант – выйти полуодетой. Ужасно захотелось примерить у зеркала. Она быстро разделась. Длинная хламида, можно хотя бы закутаться… Штанишки очень и слишком откровенны. Таня отложила светло-болотно-зеленое в сторону и оделась. Через вежливых полчаса попросила вызвать такси, он безропотно набрал телефон.
В такси Таня ругала себя старой дурой, устроила водевиль с переодеваниями. Увы, жизнь не кабаре. Бедный милый Хорст.
Ждала в ближнем кафе. Небольшой дом фирмы стоит на пригорке. По чугунной лестнице спускается пожилая дама. Держится за перила. Есть что-то, определяющее русских и за границей. Таня окликнула и увела референтку Аду на парковую скамью. Еще не очень доверяя, рассказала узнанное от мужа, преуменьшая умысел Якова и Бори. Оправдывала их мысленно: в стране крадут миллиардные заводы, реки нефти. Так время обернулось.
– Редкие суки Фриц и Джек, – сказала доперестроечная доктор филологии Ада. – Яков погиб, я ему симпатизировала. Моложе я влюбчива была, годами сгорала по певцу Георгу Отсу. А видела всего два раза. Теперь Яков. Встретимся завтра, я кое-что поищу.
Следующим вечером Ада выложила на парковую скамью толстый пакет. Она искала документы фирмы «Фриц и Джек». Жутко ночью в пустом доме… Оленьи рога на стене шевельнулись. Черная молния пролетела. Трубка Джека покатилась по столу и прожгла ковер!
– Стандартный фильм ужасов, – подумала Таня. – После полуночи Ада уверилась, Якова использовали в темную, аргентинский заказчик – туфта. Нет обычной переписки, записей переговоров, пометок в настольном календаре. Ада это предчувствовала. Нашла в компьютере новую, защищенную от взлома папку. Называется «Nebel“ – туман. Бессмысленно, папка уже пуста. На случайной бумажке обрывки черновика: «подводная лодка», «Ливан», расчеты в сотнях тысяч долларов.
– Ливан – жестокий терроризм, – Таня похолодела, вспомнив о муже. Чудо спасения. Впилась точеными ногтями в ладони.
– Прикасаться к делу «Туман» опасно. Я принесла другое.
В быстрой речи Ады мешались злоба и страх. Прохожих в аллее не видно, Таня возбудима к чужой психике. Знает за собой – поговорив с безногим, уйдет хромая.
Ада вскрыла пакет. Читали под парковым фонарем: Фриц и Джек зафрахтовали старый советский сухогруз под марганцевую руду из Керчи и наняли дешевый русский экипаж, сэкономив на страховке. На вторые сутки моряки отравились испарениями марганца. Поставили судно на мертвые якоря и послали СОС. Ближайший порт Ялта, моряков развезли по больницам. Причина в особых условиях перевозки марганца, русские на корабль не вернулись. Фриц и Джек наняли турок и филиппинцев, угнали арестованный корабль. Нокаутирующий удар по репутации фирмы и возможен судебный иск.
– Подарите эти документы, Ада… отдам в газету.
– Меня уволят с понедельника.
– Купим вам квартиру в Колпино или Пушкино под Петербургом. От фирмы «Чистые помыслы».
Таня наложила макияж «деловое утро» и отправилась в редакцию «Вельт ам Зоннтаг». В офисе на Бодензеештрасе просили подождать в комнате, полной газетных подшивок, папок и сбоку стола невзначай забытый и плохо клееный денежный конверт. Просидев минут пять, Таня почувствовала, за ней наблюдают. Яша рассказывал, так «проверяют на вшивость» людей с улицы. Особо иностранцев. Прежде чем общаться по делу. Журналист интересовался источником информации, Аду она не назвала. Журналист позвонил через день, несколько вопросов и просил задержаться в Гамбурге, набело прочесть текст. Статью напечатали.
Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий.
В Москве Таня вынула из старой обувной коробки письма, которые не отправила Борису в разные годы. Он прочел в один вечер и поцеловал. В кои-то веки. Таня собрала в дальний шкаф флотские рубашки, черные ботинки, старую черную пилотку без звездочки. На тельняшку и кортик она не посягнула. Через клиентку достала билеты на вечер военного флота в Колонном зале. Борю обманула: «прислали от министерства… форма одежды летняя парадная». Борис приободрился.
Валя вернулась в Россию, учительствует. В два – три года приезжает Катя из Саломбалы, и Борис встречает ее на Ленинградском вокзале. Таня к ней не ревнует.
Какие книги едят собаки
Приблудился пес, молодой кавказский овчар. Я мало смыслю в собаках, но когда-то жила со мной в любви и взаимности до смешного тупая дворняга. Она жила в верности и, как все, умирая, лизнула руку хозяина. Если гладить собаку против шерсти, видна белая беззащитная кожа. Если большую собаку бить насмерть, она грызет палку. Или ружейный приклад. Потом сдается и, умирая, лижет сапог. Собачья любовь – не зов ли Природы к высшему благородству, обращенный к человеку.
Женщина средних лет вышла из троллейбуса у парка, с большим доберманом цвета соевого шоколада. Их я знаю: Вита и Мартын. Мы иногда гуляли втроем. Вита решительна в суждениях, строга надменным лицом. Это делает его некрасивым. Маленький обиженно сжатый рот придает ей видимую значительность. Она с восхитительной простотой называет себя интеллектуалкой и при том боится – не поверят. Собирает «салоны по средам». В нашей провинции литераторов, актеров, художников и вообще интересующих Вику людей мало, да не каждый придет. Тон задают художники без выставок, косвенный вызов властям. Подавшие на выезд в Израиль нервозны и обидчивы. Все поразительно мало знают свою страну. О винтах и приводах политики. Поэтому спорят особенно бурно. К полночи шум стекает в прекрасные дали доброй и свободной цивилизации, виденной в кино. К Елисейским Полям Парижа. К теплой земле и прозрачному воздуху Тосканы. К оливковым рощам Израиля. Угол Бродвея и Пятой авеню, Нью – Йорк. Вита скалит мелкие зубы. Серые частности быта и окружающей действительности пробалтываются бегло и общо.
Меж гостями прохаживается доберман Мартын. Разговоры ему надоедают, ложится у стены. На обоях остается след его горячего потного тела. Подают жидкий чай. Мартыну повязывают на шею салфетку. Шутка такая. Пес вываливает язык и часто дышит.
Собирались самоутвердиться вместе и каждый в себе.
Крепчал застой. Вита ночными бдениями ждала провокатора в своем кружке. Определили бы «фиксированную группу», тогда бы написать известному московскому диссиденту и при удаче блеснуть на БиБиСи или хотя бы на Немецкой волне. Провокатор не приходил, «туда» не вызывали.
…Вита вышла из троллейбуса у парка, лицо ее бледно и заморожено. Добродушный Мартын резвился на газоне, пугая детей. Она дождалась очередного троллейбуса и вошла. Дверь с пневматическим вздохом закрылась. Троллейбус почему – то не сразу двинулся. Брошенный Мартын бился в заднюю дверь и рычал. Белая пена на брылях розовела. Долго бежал за троллейбусом, отстал. Беда, большая собака по помойкам не прокормится. Народ в городском транспорте осуждающе безмолствовал. Я отвернулся к окну, чтобы Вика не узнала. Уловил в стекле ее пренебрежительное выражение.
Была другая женщина. Несколько лет мы работали вместе в облезлой четырехэтажке на окраине Риги. Что – то считали и нормировали. Симпатизировали друг другу. (Наш язык прихотлив: симпатизировать себе нельзя. Себя можно любить). Мы любили смотреть на медленный дождь, и на огонь. Ускользающие минуты, когда близость возможна, но лишена духовного смысла. Собирали дикую малину на лесной вырубке. Она была в косынке по самые глаза, и в ладных резиновых сапожках. Наклонила красную ветку, упала радуга. Я влюбился.
– Не надо меня любить, говорила она с искренним чувством. – Наши отношения станут опасны, если… В конце концов на мне дом, трудная дочь, и я банально люблю мужа. Казалось, она уговаривает не меня, себя. Чеховский сюжет, но мы никогда не стояли, касаясь руками, в церкви на ранней заутрене, я не играл в вист с ее мужем, дочь видел мельком. Мы жили в стране прохладных человеческих отношений.
Никакой тайны любви нет. Простота любви Кате недоступна. Так мы уговаривали друг друга года полтора. Вся эта цепочка событий изнурила меня чрезвычайно и выпила все соки. Потом она уезжала навсегда в другой город, я вез ее к поезду. В раскаленном летней жарой автомобиле родился язык ее тайных желаний и страстей. Могли бы прожить другую жизнь, а сейчас поздно. Свернули с асфальта на грунтовую, по проселку в редкий молодой лес и стали судорожно, в тесноте «Жигулей», раздеваться. Увидели худую собаку, привязанную к дереву. Тянула стрелой поводок и неотрывно, неотрывно глядела вслед предавшему ее хозяину.
– Отпусти ее, сказала Катя.
– Катя… она оттолкнула меня.
Я поплелся к разросшейся липе. Старая собака меня будто не заметила, все смотрела вперед и тянула поводок. Расстегнуть ошейник я не смог. Вернулся к машине, мошкара тучей слетелась на мою голую плоть. Ножа в сумке не было, рылся в багажнике. Обрезал поводок и пес бросился сквозь лес и потом луг, редко останавливаясь, вынюхивая старый след.
К поезду мы опоздали и сидели на вокзальной лавочке. Кто – то любил девушку Светлану и на скамье вырезал навечно «Света».
Катя уехала и я погнал машину на парковку. Там и приблудился молодой овчар. Вряд ли его бросили здесь – место не подходящее. Может быть, хозяину казалось, собака запрыгнула и лежит на заднем сидении. Стартовал.
В первый день пес искал что – то, перебирал одежду. В порыве сентиментальности я подумал, он ищет запах женщины из своей прошлой жизни. Женщины не было. Если мои редкие гости задерживались в прихожей, он легко покусывал их за щиколотки, пастушья порода. Так на горном склоне кавказская овчарка загоняет в стадо отбившуюся корову. Оставшись один в квартире, он грыз книги. Я подкладывал «Справочник профсоюзов», он грыз старые тома. Они вкусно пахнут настоящим мучным клеем. Иногда вечером пес грустно лежал у входной двери. Ждал прежнего хозяина? Безнадежно окликал его – Мартын! Подумал, собака знает слово «гулять», и назвал его Гуляй. Он приносил в зубах поводок и садился у двери. В общем, минуты единения и счастья были.
Месяца через три позвонил хозяин. Уезжал куда – то, потом опрашивал владельцев машин на стоянке. Я спросил имя пса.
– Тёма.
– Тёма? – переспросил.
Пес взвился и кинулся лизаться. Услышал свое имя. Еще два дня называл его Тёмой. Грустно расставаться, во всяком случае мне. Тёма прикусывал за запястье – звал с собой.
Прекраснодушный
В старости ум не дает вариантов мысли. Душевный и постоянный диалог с самим собой становится плоским, а воспоминания невольно правдивы при спящей фантазии. Да и мистер Паркинсон вскоре разделается со мной, как некогда с моей матерью: я пишу, придерживая кисть правой руки – левой. Не припомню имени молодого актера, он прощался со зрителями телеканала, где недавно был популярен. Вид перекошенного страдающего лица ужасен, но продюсер, очевидно, не мог отказать. Актеру подали микрофон, но лишь тень человеческого голоса (если голос может иметь тень) прозвучала. Дали белоснежный лист бумаги и он, упирая левой рукой правую, написал по детски крупно и в кадре «прощайте». Изображение дрогнуло – сбилась рука оператора за камерой.
У меня нет времени на фантазии, это лишь заметки простодушного человека. Если, глядя в печатный лист, вы примете текст за прозу, то она, заметьте, растет из глагола. Как сама жизнь: «уехал», «думал», «простил», «любил», «нашел».
Ей под восемьдесят, я нашел Веру на полу ее комнаты. Она как трава, без движения и речи. Байковый халат неприлично распахнулся. Лицо оплыло и посуровело, никогда оно не было столь значительно. Боялся прикоснуться, дыхания не слышно и глаза без взгляда, неподвижные без глубины, данной Кем – то человеку. Возьму ее на руки, а вдруг взглянет осмысленно прежняя тетя Вера. Было тихо, солнечно на двенадцатом этаже и, казалось, так будет всегда. Нелепо поднял Веру, невольно обняв. Непристойный поток сознания… бедная Вера, вечная девственница, мужских рук ты не знала. Живя рядом, ты была первой женщиной, о которой я думал подростком. Нелепо путаясь в Вериных ногах и руках, перетащил ее в постель и накрыл пледом. Она получила эту дешевую и колючую вещь в подарок ветерану великой войны и радовалась ей и показывала редким знакомым.
Вошла усталая, в провинциальном и бесцеремонно блестящем золотой люрексной нитью жакете врач.
– Женский инсульт редок и кома держит дольше.
Высоко задрала ногу лежащей Веры и отпустила. Нога упала истинно не живая.
– В нашу больницу никак не возьмут, разве в коридор. Пахнущий постными супами и старостью, заставленный койками по одной шершавой стене коридор я видел.
– Нет. Заплачу сиделке, санитарке. И есть же гуманитарные службы…
– Сейчас раздеть догола, подложить кухонную клеенку, клизму сделать.
– Я сам? Вот уж действительно волосы шевельнулись ужасом.
Женщина сдавила легко Верино безвольное морщинистое горло и придержала. Оно дрогнуло.
– Кормить – поить, две – три ложки. Это вам родственница?
– Тетка Вера, всю жизнь с нами была, сейчас вдвоем.
– Благо, что не мать. Сыну за матерью так смотреть грех и мука. Господи, пошли нам кончину скромную, чистую и недолгую. В первый раз сама все сделаю, вы придержите.
Вечерами я в изнеможении курил в лоджии. С видом на реку Даугаву, широкую здесь. Медленное течение, сколько себя помню, внушало покой. С годами на необитаемом Заячьем островке построили телебашню, монстра на трех лапах. Как боевые машины из «Войны миров» Герберта Уэллса. Башня высока и видна отовсюду. Сегодня чувствую, марсианин готов перешагнуть реку и, путаясь в ногах, сокрушить меня, Веру и город за нами. Без пощады, не различая латышей и русских, зверей в зоопарке, евреев, поляков, националистов, коммунистов, членов Партии некурящих и участниц парада Настоящих блондинок.
Четыре дня я старался, как мог, привыкая к невозможному, особо противному мужскому естеству. Зачерствел душой в кормежках, омовениях. Названивал знакомым в надежде найти сиделку. И внешне сдал, где же скромный лоск и некоторая вальяжность холостяка, знающего себе цену. Когда Вера засыпала (?), я думал о сестрах: маме и Вере и конечно об отце. Его за сорок прожитых вместе лет я не узнал. Он холодно меня не замечал. Временами думалось, в моем рождении была какая-то тайна? Я окончил школу – он посоветовал идти слесарем на ближний завод. Я ушел в армию, отец на пятый день спросил, почему я не выхожу к обеду. (Тетка Вера как-то рассказала). К столу требовалось являться в застегнутом пиджачке, большие подростковые кисти торчали из рукавов. На низком абажуре, дававшем глубокую тень позади круглого стола, висела записка: Sodien mes runasim latviski (сегодня мы говорим по латышски) или Heute sprechen wir nur Deutsch (сегодня мы говорим только по-немецки). Я отпраздновал диплом престижного радиофакультета, отец, узнав об этом удивился и обещал устроить в радиорубку поезда Рига – Москва крутить музыку.
Мама успела до первой мировой войны и общерусского развала окончить царскую гимназию, и было в ней нечто рафинированное. В голову не могло придти обнять ее, прижаться телом. Она спрашивала только, перешел ли я в следующий класс, и однажды подложила письмо, предостерегая от юношеских заморочек.
Тетя Вера была теплей и ближе. Она пошла по комсомолу, обязательному трудовому стажу и без любви к ремеслу стала врачом. Война, госпитали, естественно, самые яркие ее годы. Потом пустота. Мама позвала – живи с нами, Веруля. Сестры стали близки, когда тень Холокоста настигла семью. Третью из сестер звали Блюме (Цветок), она погибла на Украине. Рыдала Вера, мама вышла в соседнюю комнату и долго смотрела на себя в зеркало. Она походила на Блюму. С того дня о ней мама никогда не упоминала.
Врачом в рижской больнице Вера тайно любила профессора, делавшего красивые операции на заячьей губе. Такая же не оперированная губа была у него под породистыми усами. (По смерти Веры нашелся медальон с обрезанной по краям фотографией профессора, лет шестидесяти пяти. В те дни пронзительно – сентиментальный, я опустил медальон в гроб). Потом Вера стала опрятной старухой, любила готовить и смотреть, как едят. Вот, собственно, и вся канва Вериной жизни. Еще семейная молва – в юности она полагала замуж за горного инженера, но у жениха обнаружился туберкулез.
Моя жизнь повисла на волоске, на прозрачной паутине, когда Вера поселилась с нами: она привезла с фронта пистолет (скоро сдала куда положено). По ночам я открывал ящик стола и гладил ребристую рукоятку. Это не могло продолжаться вечно – вынул пистолет и понял, патроны есть. Чувство неизмеримого превосходства над всеми мальчиками и девочками 7 Б класса охватило меня. Спрятал ТТ в ранец (отец настоял: ранец формирует осанку. Моя кличка была, естественно, ранец – засранец). Утром вместо уроков поехал стрелять в парк Аркадия. Понимал, за одним – двумя выстрелами сбегутся люди, но не мог об этом думать. В пустынном зимнем парке положил ранец на снег, вынул пистолет, тяжелый. Нацелил в дерево поближе и вдруг решил – застрелюсь. Как же иначе оправдать стреляный патрон и кражу? Были школьные приятели погодки Эдик и Саша, я часто приходил, чтобы увидеть их мать, как сейчас понимаю, полную улыбчивую женщину лет сорока. Но тогда я любил ее, не зная, что на самом деле это сыновнее чувство, и плакал с пистолетом в руке. Плакал от неизбежности жизни, в которую предстоит войти.
Всю жизнь мне не везло, не фартило, не выпадал случай. Глупые совпадения, неудачи и сплетни, неуверенная нервозность преследовали годами. Но судьба была снисходительно – справедлива в парке Аркадия: пистолет надо снять с предохранителя, но как. Повертел и подергал так и так и положил ТТ на снег, а потом в ранец и поехал на трамвае номер пять в школу. В тот день Фортуна благоволила, хватило страха не вынуть пистолет из ранца. Ночью вернул его в ящик стола, замок открывался ногтем. Вера, кажется, заподозрила и смотрела настороже.