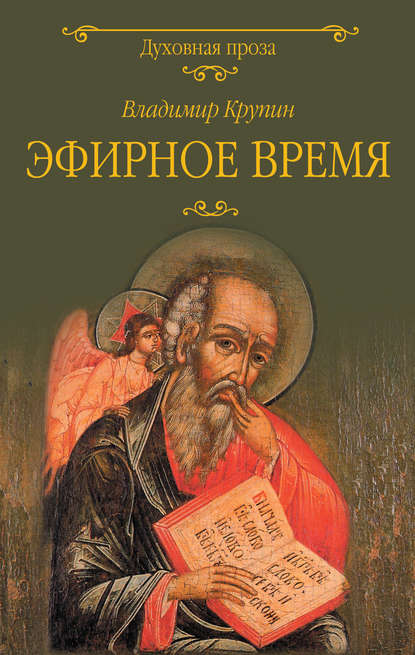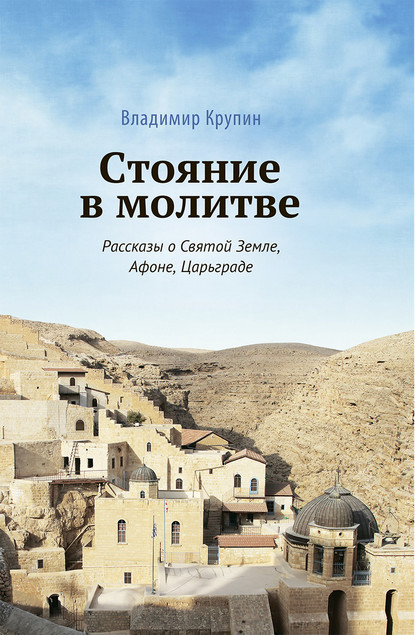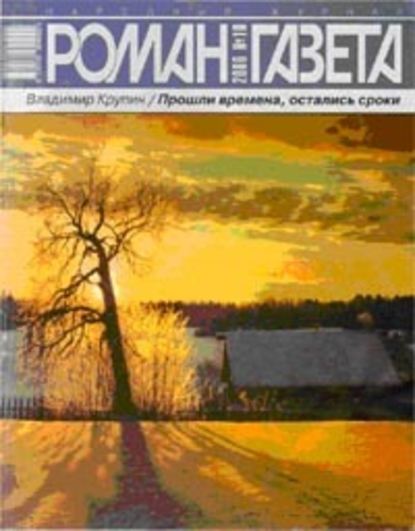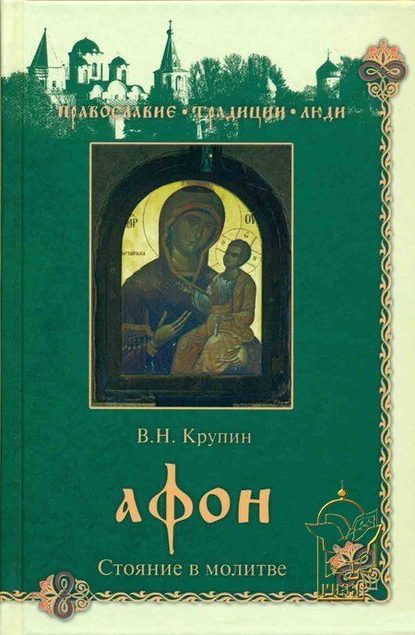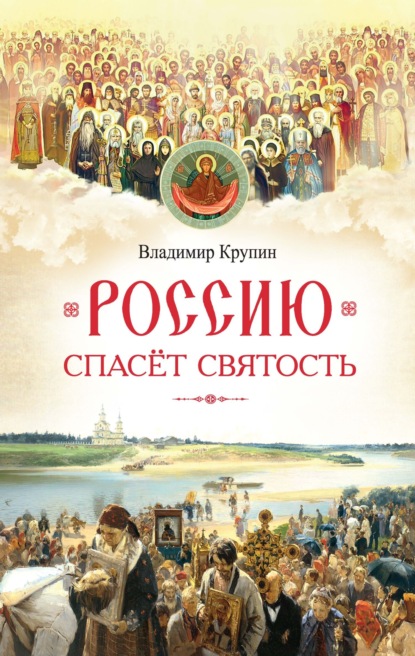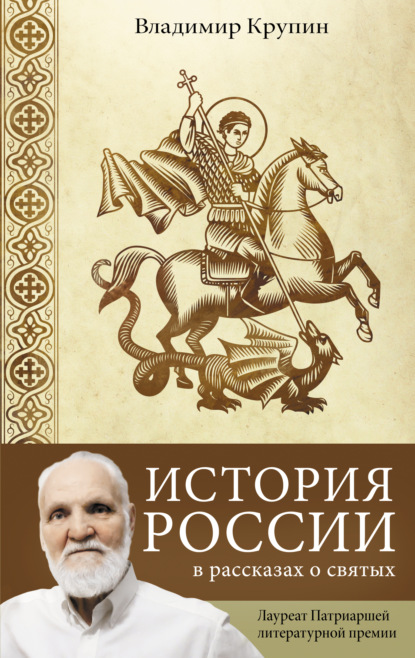Полная версия
Живая вода
Три курицы отдали жизнь за жизнь Кирпикова. Три грудные куриные косточки собрал он и трогал сухими пальцами.
Такими косточками, похожими на уголок, играют дети. Берутся за концы и со словами «Мне на память, тебе на камень» раздергивают. Кому достанется часть побольше, считается, что он умрет позднее. Когда приезжала Маша, они тоже так играли. Кирпиков держал косточку за самый кончик, а Машу учил держать около уголка – и Маша побеждала. «Я никогда не умру!» – говорила она. «И правильно!» – одобрял он. Вот бы приехала, она б его живо растеребила, поставила на ноги, повела бы смотреть секретики. Когда он был маленький, у них не было такой игры: копается ямка, туда кладется разный красивый сор – стекляшки, камешки, тряпочки, – потом ямка закрывается стеклом и засыпается. И сверху ничего не видно.
У них с Машей был сделан большой секретик. Они пили чай. Маша болтала ногами, вертелась за столом и довертелась: разбила чашку. Миленькая, как она испугалась! Кирпиков думал – палец порезала. Нет. Ревет-уливается. Из-за чашки? Всего-то? Кирпиков схватил свою, которая досталась еще от деда, и хлопнул об пол. Маша все равно плакала. Он стал совать ей тарелку: «Бей, Машенька, бей». Маша понемногу успокоилась. Тогда они подмели осколки, выбрали красивые и сделали секретик.
Впервые став беспомощным, Кирпиков оказался великим занудой. Весь он изнылся, исстонался, загонял Варвару до того, что она уж и не рада была, что муж дома, а не – прости, Господи! – в пивной. Он все посылал звонить невестке.
– Пусть Машку везет. Ты понимаешь русский язык? Иди звони.
– Господи, и болеть-то нормально не умеешь, – злилась Варвара.
Кирпиков приподнимался на кровати.
– Ты знаешь, – говорил он проникновенно, – я много сейчас думаю.
Варвара попадалась на удочку.
– Ну, хоть додумался, что пить нельзя? Хоть додумался, что за всеми не угонишься?
– Да, мать, надо тормозить. Да я уж и перестал. Ты знаешь, я ведь и не жил еще.
– А кто за тебя шестьдесят лет жил?
– Не знаю. Только не я. Я еще и жить не жил – вся жизнь одним махом: ломал хребтину, тебя обижал…
– Хоть теперь-то понимаешь…
– Вся жизнь из-под седла да в хомут, дети все мимо прошли, дня от ночи не отличал.
– Да, Саня, ох неналомный ты был.
– Надо мне с моей жизнью проститься и жить по новой системе. Перестроить свое заведение. Ты меня прости, зла не помни, я не виноват, что так меня крутило.
Варвара уходила кормить оставшихся куриц, мерина, шла в магазин, где бабы и продавщица Оксана спрашивали, когда же Кирпиков думает копать одворицы: погода подпирает, земля сохнет.
– Да уж как-нибудь, – вздыхала Варвара и возвращалась домой.
Но однажды Кирпиков довел ее.
– Хорошо ты устроилась, – сказал он, – очень хорошо. Богу помолилась.
– Из-за тебя, лешего, молитвы ни одной не знаю! – со слезой закричала Варвара. – Поехала на Пасху со старухами, всю обсмеяли. Говорю: «Отче наш, ежели еси на небеси». Позорище, со стыда сгорела.
– Но раз уж ты уцепилась, верь, – опять начинал Кирпиков. – Если тебе больше не за что держаться. – Он начинал кашлять, и Варвара видела в этом знамение: кашель за богохульство. – Нет, товарищи, плохо мне – пусть будет плохо, а хорошо – пусть будет хорошо, не перед кем унижаться, сам достиг. Я сам себе бог. И новую жизнь начал тоже без него. Он за меня не пьет? Он бросил курить?
– Господи, Господи, – закричала Варвара, – думала отдохнуть перед смертью, нет, не даешь! Как на точиле живу. Какой к тебе лихорад прицепился, что ты меня травишь? Ухожу!
– Не бойсь, прорвемся! – закричал он вслед.
В тетрадке, которую держали на письма, он после недолгих мук творчества проставил сегодняшнее число, месяц, год. Написал: «Я родился весной в девять часов утра…» Дальше заело. Он посмотрел на часы, сверил по солнцу, как раз девять часов утра. Посмотрел в тетрадку – стоит сегодняшняя дата, время совпадает. И все разговоры его и заявки о новой жизни вдруг представились ему очень серьезными. Он встал – неуверенная легкость в ногах, но стоит же, не падает, сердце бьется, солнце светит, скоро Машка приедет, чем не жизнь!
Он умылся (немного заныла царапина на щеке) и в девять подсел к столу, снова посмотрел в тетрадку и засмеялся: получилось, что он родился десять минут назад и уже крестился умыванием. «В самом деле! – воодушевленно подумал он. – Надо по-хорошему развязаться с прошлой жизнью – и в новую!»
Он бойко, почти без ошибок начал строчить: «Я, Кирпиков Александр Иванович, находясь в полном уме и добром здравии, завещаю внучке моей, Марии Николаевне…» – тут перо споткнулось: завещать было нечего. Он обвел взглядом комнату, прикинул в уме: действительно нечего. Даже головой крутанул – вот это называется пожил. Его легко можно было упрекнуть в непоследовательности: то ему ничего не надо, то вдруг чего-то хочется завещать.
«А дед?» – вспомнил он.
Дед его перед смертью подозвал к себе любимого внука Саню и сказал: «Завещать тебе нечего, но только одно – до обеда не пей! Не водка затягивает, а опохмелка».
Кирпиков этим успокоил себя и начал заново, уже в другом духе: «Остановите маятник – Кирпиков покинул вас, чего и вам желает…» Он вовсе не желал всем останавливать маятник, но хитрая штука письменная речь: хочешь сказать одно, а говоря по-нынешнему, выкатывается из-под шарика другое. Кирпиков почесал в затылке и вновь занес ручку над тетрадью, но тут, как черт его поднес, ввалился Афоня.
До лучших времен тетрадь закрылась.
– Чего это ты? – Афоня пристально вглядывался в Кирпикова. – Морду-то где рассобачил, говорю?
– Об соху звезданулся.
Афоня достал из кармана посудинку и уже убежал на кухню за стаканами.
– Мне не бери! – крикнул Кирпиков. – Я больше не пью.
– За что поздравляю! – сказал Афоня. – Сколь людей из-за нее на корню гибнет. Умеешь пить – начальник, а нет – утрись. Ну, чтоб тебе не хворать!
– Я больше не пью.
– Значит, помрешь. – Афоня отставил было стакан, но так как замах хуже удара, а замашка произошла, организм приготовился, то он выхлебнул свою порцию, передернулся и поднял палец. – А знаешь, почему помрешь?
– Я больше и не курю, – добавил Кирпиков.
– Еще быстрей помрешь. Знаешь почему? Нельзя таким рывком – сорвешь шестерни. Надо постепенно скорости переключать, а то муфта полетит. Мотор, – он похлопал по левому верхнему карману, – в капиталку загонишь. Не веришь? Мне один рассказывал – у них мужик помер. На сплаве. Надсадился, лежит, просит: «Дайте хоть сто граммов». И нашелся, сволочь, умник какой-то, говорит: «Не давайте, это вредно!» Главное – спирт-то был! И не дали! Врач потом сказал: если б выпил, жил бы. А ты таким рывком – это, Саша, под откос.
– Не буду! – твердо сказал Кирпиков. – Ты мой стакан тоже выпей.
– Смотри сам, – успокоился Афоня и выпил порцию Кирпикова. Делать ему больше нечего было, и он собрался. – Ну, давай! Я погляжу, да и тоже отрекусь от этой водяры. Лучше сэкономить. О! – вдруг сказал он, пораженный. – А как же за работу?
Это был вопрос по существу. Не брал Кирпиков деньгами, но те, кому он помог, разве отпустят, не отблагодарив. До этого времени хозяева выставляли после работы бутылку, она совместно распивалась, и все были довольны.
– Правильно! – воскликнул Афоня, уходя. – Бери деньгами.
Население поселка начинало волноваться. Картошка, вынутая из подполий, уже давала крепкие синеватые ростки, земля прогревалась, навоз на одворицы натаскан, а пахаря нет. Где?
– Небось не просыхает! – кричал обиженный пенсионер Деляров.
Круглая продавщица Оксана, жена Афони, тоже негодовала – на Кирпикове был долг в пять двадцать. Давался он Кирпикову натурой в счет будущей вспашки, будущее наступило. Оксана не постеснялась спросить Варвару, думает ли ее муженек отрабатывать денежки. «Болен он». – «Небось опился». – «В самом деле болен». – «Скрываешь». – «Спроси фершелицу. Дай я его долг отдам». – «Я уже сама отдала, если он не хотел мне помочь, так и скажи». И т. д.
Соседка Кирпикова, Дуся, говорила, что да, фельдшерица приходила, но сама же отвергла сердобольный вариант: «Спирту небось за вспашку притащила, вот и дует».
Бедная Варвара, раньше имевшая от весны и осени кроме огорчений все же и моральное удовлетворение как супруга знаменитости, сейчас не знала, куда деться. Никто не верил, что Кирпиков болен.
– Закрылся да хлещет!
– Коровьими глотками!
– Его поили, он думал – даром?!
– Мы не дураки, как некоторые думают! – кричал пенсионер Деляров. – Авансы выданы!
– Вы не дураки, – уважительно говорила Дуся, мать-одиночка. И в данное время вообще одиночка, дочь самокруткой ускочила замуж в город.
С приходом Афони наступила ясность момента. Кирпиков болен. Был. Выздоравливает, зря не орите. Больше не пьет ни под каким видом. За работу (тут Афоня сделал паузу) будет брать деньгами.
– Деньги – мера труда! – крикнул Вася Зюкин.
– Молчал бы! – оборвала его Оксана.
– А расценки? – бегая трусцой вдоль прилавка, кричал Деляров. – Пусть покажет расценки! А подоходный налог он думает отдавать? А частносекторский? А комиссионный? А многодетный? А прогрессивный?
– Действительно, вот именно! – поддакивала Дуся.
– Платить по совести, – отвечал Афоня.
4Кирпиков чинил упряжь. Сшивая ременные вожжи, резко продергивая дратву, он все больше оживлялся и все больше уважал себя – победил, выдержал натуру, действительно переродился. Визит Афони он расценивал так – приходило прошлое с его пережитками, но оно его не утянуло и уже не утянет.
Всю упряжь перебрал он, все проверил, добрался до кнута. Плетенный из узкой сырой кожи, кнут залоснился, почернел, черенок из вереса был как лакированный. Сколько раз этот кнут взвивался над мерином. И без того надрывался мерин, тянул воз, и казалось, вот-вот сдохнет – и останется воз в глубокой колее, в сыром овраге, но со свистом и руганью врезался кнут, обжигал кожу, и мерин дергался, чуть ли весь не продевался в хомут и выволакивал воз на высокое место. Старший сын Николай тоже мог помнить этот кнут. Дважды он попробовал его: первый раз, когда Кирпиков увидел сына курящим и чуть не оторвал папиросу вместе с губами, и второй раз, когда ребята возили солому на быках и в полдень убежали купаться. И заигрались, пикируя с деревьев, подражая Тарзану из трофейного фильма. Заигрались все, а досталось Кольке, сыну бригадира. «Бей своих, чтоб чужие боялись…» – так оправдывал себя тогда Кирпиков.
Через колено сломал черенок, отшвырнул к печке. Нет, никого больше он не ударит в своей новой жизни.
– Ну! – решительно сказал он, вставая, обводя взглядом свою избу: кровать, на которой он чуть не умер и выжил, тетрадь, в которой была запись о его втором рождении. – Ну, запевай «Дубинушку» на две недели.
Он выкатил из конюшни плуг, смазал взвизгивающее колесико.
– Выходи, – велел он мерину.
Мерин не шевельнулся. Наступила заминка. Не хотелось Кирпикову ругаться в новой жизни, но для мерина наша речь не делится на печатное и непечатное.
– Выходи, голубок, – сказал Кирпиков. – Будет твое имя Голубок. Или Голубчик. Ругань забудь. Начнем жить по-новому. Выходи, Голубчик.
Номер не прошел. Положение деликатное. Ругаться неприлично – пережиток, но пахать надо. Кирпиков хватился за пояс – кнута нет. Им хоть бы пугнул для виду. Мерин тоже мучился – хозяин заговорил с ним как-то непонятно. Пришлось легонько одноэтажно матюгнуться. Мерин облегченно вздохнул и вышел.
Варвара вынесла ведро с водой.
Но опять заминка – не пьет мерин, ждет команды. Пришлось скомандовать, не ехать же с ненапоенным конем – запалится.
– Приступить к приему пищи, – сказал Кирпиков и сморщился: так издевательски по отношению к трудяге мерину прозвучали эти слова. – Ты тоже хорош, – сказал он с упреком. – Тебе дают самостоятельность, не матерят, а ты? Нет в тебе гордости.
– Может, еще дома побудешь? – испуганно спросила Варвара, думая, что муж заговаривается. – Окреп бы, а, Саня?
– Я бы побыл, – сказал Кирпиков, – но не от меня зависит – пора.
Солнце хлестало во всю свою теплынь и светлынь. Корешки каждой травинки крепли, холодная водица торопилась по ним вверх. Мальчишки старались выскочить из дому босиком. Даже ожидающий их справедливый подзатыльник был не помеха. Хотелось сигануть вдоль по улице, по лужам, но вдруг замечал мальчишка красных жучков-солдатиков, присаживался на корточки и смотрел, как солдатики бегают взад-вперед, и пытался понять, куда они бегают, зачем, но бегали они пустые, без толку, и было их беготне только одно объяснение – весна.
И началась страда.
Поселок стоял частью на песке, частью на глине. Подзолистые были повыше и быстро высыхали, песок сыпался из-под плуга в отвал с шуршанием. Лемех продирался песком до блеска и пронзительно вспыхивал на заворотах, когда Кирпиков переставлял плуг в новую борозду.
Начал Кирпиков с одворицы Ларисы. Отказался выпить, его не неволили. Лариса подумала, что еще сто раз успеет отблагодарить, да и сто раз, полагала она, ему наливали и в долг и даром.
Ближе к пруду, на суглинках, земля была тяжелой, непроворотной. Там были огороды фельдшерицы Таси и почтальонки Веры.
Мерин, приседая от напряжения, продевался в хомут, плуг выталкивало вверх, Кирпиков обшибал ноги о вывороченные комья и камни и поневоле матерился.
Хозяйки просили перепахать второй раз, впопережку по вспаханному. Кирпиков не отказывал, но давал мерину и себе передышку. Мерину выносили искрошенную в тазу буханку хлеба, пахарю стопочку. Раньше стопочку Кирпиков принимал и, бывало, шутил: «На допинге идем». Сейчас отнекивался.
Мерин доедал хлеб, и снова они принимались за нелегкое дело свое. Кирпиков сбрасывал телогрейку, в следующем доме оставлял пиджак, потом стаскивал и рубаху и шел за плугом в шапке и в синей спортивной майке. Майку привез ему сын. Кирпиков поправлял падавшую с плеча лямку и орал на мерина: «Куд-ды, так-распротак, пр-рямо! Бороздой!» – и тому подобное, потому что ругаться пришлось: мерин одержал победу над именем Голубчик и сохранил прежнее к себе отношение.
После работы хозяйки зазывали Кирпикова в дом. Кирпиков и сам бы рад отдохнуть и поговорить. Раньше, когда он пил в каждом доме и перехаживал хмель на ногах, у него было непрерывное дурное состояние. Сейчас он смертельно уставал, но голова не болела, это радовало, хотя выпить с устатку, разогнать кровь ох как тянуло. Держался.
– Ну, не осуди, не побрезгуй, – говорили ему, пододвигая стакан.
– Нет, нет, – говорил он, – не заставляйте, не могу.
– Ну что такое для мужчины рюмочку?
Наливали побольше.
– Какая тут рюмочка, эка бадья. Ох, бабы, не тратьтесь вы на это пойло. – И переводил разговор. – Небогата наша землица, бессолая, да тепла, – говорил он, кладя на стул шапку и садясь на нее. – Ледник виноват. Ледник-от был, мать его конташку, и утянул на юг все наше плодородие. У них там всякие цитрусы, хитрусы. На нашей земле растут. Зато там у них холера, а у нас нет. Возьми на заметку – холера заводится в тепле.
– Хоть закуски поешь, – просила хозяйка.
Но обедать в чужом доме, не выпив перед этим, было уже совсем неприемлемо.
– Дома поем.
Хозяйки терялись.
– Ну, так чего, – говорили они, стесняясь, – уж больно хорошо вы помогли, Александр Иваныч, деньгами возьмите.
– Не беру. – Кирпиков брался за шапку и уходил.
В другом доме повторялось то же. Мерин ел хлеб, Кирпиков пытался поговорить.
– Грамотешку бы мне, – говорил он, – я бы начальником стал. Я бы вас научил, чтоб вы хуже всех не жили. Грамотешки у меня маловато, а вы живите, и ладно. Ну народ! Хоть пень колотить да день проводить.
Ему пододвигали стакан. Он уходил. Его догоняли, совали деньги, он не брал.
– Примите мой труд даром, – говорил он и направлялся дальше.
«Что с мужиком случилось? – судили о нем. – Был человек как человек, сейчас неизвестно что».
Вопрос с оплатой труда Кирпикова решился просто – деньги стала брать Варвара. Хозяйки приходили к ней и совали кто три, кто четыре рубля. Варвара сначала не брала – и сложилось такое мнение: это Кирпиков подучил ее набивать цену. Откровенно говоря, Варвара была рада деньгам. Но, не ожидая от мужа ничего хорошего, уж не чаяла дождаться конца посадки.
Муж возвращался домой к ночи, два часа выдерживал опавшего в боках мерина, после поил. Сам, не раздеваясь, валился часа на четыре. И то ли ему некогда было слушать, то ли спал крепко, но казалось, что все меньше и меньше лают собаки.
С рассветом он входил в конюшню, будил мерина, давал овса, а сам кашлял до изнеможения – сказывался табак. Но не курил.
– А ну! – говорил он, разбирая упряжь, и, горбясь, выходил со двора.
Жалостливо смотрела вслед Варвара и спрашивала:
– Когда свою-то картошку посадим?
– В порядке общей очереди, – принципиально отвечал Кирпиков.
Перевернутая борона весело волоклась по земле, отпотевший лемех пускал вялых зайчиков, отражая первое рассветное солнце.
Приехала невестка. Приехала одна, без Маши.
– Заживаться мне некогда, – сказала она. – Я взяла два дня за свой счет. Папаша, простите меня, вы, ей-богу, ненормальный. Иметь в своем распоряжении лошадь и… Памятник вам никто не поставит.
Обращение «папаша» Кирпиков не любил и ответил, что мерин этот не его, а на балансе, что рабочие лесобазы имеют право на вспашку, что за услугу внесли в бухгалтерию деньги.
– Быть у воды да не напиться, – пожала невестка плечами.
– Жажды не испытываю, – надменно ответил Кирпиков.
И все-таки повернул коня к своему двору. Помог растрясать в борозды пряди желтого навоза, следил, чтобы пласт от пласта был на расстоянии лаптя.
А невестка стала приезжать вот из-за чего. Кирпиков по страсти своей к освобождению от всего лишнего решил, что хватит под картошку и трех соток, а остальное хотел засадить смородиной и малиной, чтобы было чем порадовать Машу. Но невестка решительно выступила против.
– Образования садовода у вас нет, а земли займете столько, что всю картошку вытеснит. Я стану приезжать, если вам трудно.
В уборку Кирпиков отдал свою картошку с лишних соток невестке. И раньше им посылали, но сейчас стало выходить, что картошка берется не в подарок, а как своя.
Злее обычного Кирпиков орал на мерина. Хотелось ему увидеть Машу. Вот уж кто помог бы ему утвердиться в новой жизни. Какая там пивная, да сгори она, пропади она пропадом, сто лет бы туда Кирпиков не зашел, если бы с ним была Маша.
Варвара привычно дивилась, как расторопна невестка, как ловко хватает из ведра и растыкает в бок пласта картошку, как в шутку, но энергично покрикивает на свекра. Варвара не любила невестку, но умом понимала, что их спокойному Николаю такая в самый раз. Не какая-нибудь развей-растряси из нынешних. И как раз с невесткой Варвара хотела поговорить о причудах мужа. Надо было урвать момент.
– Подарочек привезла! – крикнула невестка, меняя пустое ведро на полное.
– Ой да чего уж ты, да зачем? – отозвалась Варвара, а про себя посердилась, так как подарки невестка везла рублевые, но преподносила так, будто достала их по великому блату.
Конечно, Кирпиковы отвечали отдарком, и не рублевым, но все выходило, что невесткино не в пример ценнее. Главное в подарке – оригинальность, считала невестка, а Варвара думала, что главное в подарке – полезность.
Сажать картошку – не копать. Трех часов не прошло, как закончили. Варвара и невестка собрали пустые мешки и ведра и пошли в дом приготовить стол посидеть на дорогу, а Кирпиков отцепил от валька плуг, прицепил борону и стал ходить с угла на угол разравнивать участок.
– С успехом трудиться!
Держась за шляпу и начиная снимать ее для приветствия, показался за забором пенсионер Деляров.
– Нам бы этого добиться, – уважительно откликнулся Кирпиков.
Деляров обалдел и шляпу не снял, хотя как раз следовало приподнять ее: ведь ответили ему человеческим языком, не матюгнулись, как в былые времена. «Нельзя снимать шляпу – сильное солнце, вредно, – торопливо думал Деляров, да так и держал руку у полей шляпы, будто принимал парад проходящего строевым шагом мерина. – Значит, правда», – потрясенно думал Деляров. К правде относились слухи о Кирпикове: что на людях он больше не пьет, что притворяется бескорыстным, что собирать деньги научил жену.
– Спасибо, говорю, на добром слове, – сказал Кирпиков.
Он уже развернул мерина и шагал обратно, а мерин часто кивал, будто сообщал Делярову: пьем по ночам, деньги давай, слупим с тебя четвертную.
– Тпру, Голубчик.
Перевернув борону, Кирпиков положил на нее плуг, подошел к Делярову.
– Сейчас мне невестку провожать, так что смотрите: или подождете, или потихоньку сами начнете пахать. Сможете?
«На “вы” назвал!» – окончательно испугался Деляров.
– Сам, сам, – пролепетал он. Снял шляпу и подставил лысину для просушки жарким солнечным лучам.
Подарочек, привезенный невесткой в этот раз, был явно недешев. Это была заклеенная блестящей бумагой пузатая бутылка.
– Французский коньяк! – объявила невестка. – Разве не оригинально, в поселке – французский коньяк?
– Ой да матушка ты моя, да зачем хоть и тратилась-то, да ведь послушай-ка, что вышло-то.
И Варвара торопливо рассказала о перемене в муже.
– Может, язва открылась? – спросила невестка.
– Есть стал лучше, все подряд.
– Вот видите, – сказала невестка, – ничего их не берет, а молодые нынче из болезней не вылезают. Может, женщину завел? Не смейтесь, мамаша, мужчины такой народ, что… У нас у одной в бухгалтерии муж выдумал, что прописали одиночный ночной режим, а через декаду застала с любовницей.
Но все-таки Варвара, отклонила домыслы о женщине как нереальные.
– Делать-то мне что, ведь, матушка, приходят, деньги ведь суют…
– Деньги брать, – решила невестка. – Давайте я отвезу, положу на книжку на ваше имя. Именно на ваше, мама. Мало ли что и как в жизни.
– Конечно, конечно, – горестно поддакнула Варвара.
Стол тем временем был накрыт. Пришел и вымыл руки молчаливый Кирпиков. Сели. Невестка содрала фольгу с горла, сняла оплетку, отвинтила пробку. Кирпиков не понял сперва, что в бутылке алкоголь, но невестка гордо сказала: «Коньячок» – и назвала цену.
Варвара ахнула.
– Да-да, – сказала невестка. – И не возражайте. И я очень вас одобряю, папаша. Пейте для здоровья по рюмочке. Вначале надо согреть рюмку, лучше бы, конечно, серебряную, в ладонях, а потом… – Видя, что свекор сидит и не греет в ладонях рюмку, невестка обиженно сказала: – Вы не верите, что столько дорого стоит?
– А чего ради врать-то? – спросил Кирпиков и, полагая, что рюмка такого питья не повредит его решению не пить, сделал глоток. И тут же испугался: – Это ведь я рубль проглотил?
– Больше, папаша, больше, – засмеялась невестка.
Но не смогла уговорить Кирпикова выпить и слила коньяк из его рюмки обратно в бутылку. Сама выпила (чтоб картошечка росла!), пообедала и собралась.
– Папаша, берегите себя, – сказала она, вернее, завела свою вечную песню, – смотрите, какой высохший стали.
– Ну так как, – решился сказать Кирпиков, – Машу-то привезешь? Я бы и сам подскочил за ней. Ты же видишь, что встал на твердые рельсы. Лето поживет.
– Загадывать вперед ничего нельзя. Может быть. Я собираюсь лечиться, Коля тоже посылает, это я только с виду здоровая, а так вся насквозь больная, такие анализы плохие, – она посмотрела на Варвару, та закивала, – так что не знаю, не знаю. Надо еще дожить. Ой, не пора ли?
Как ни возражала невестка, Кирпиков накупил ей полные руки игрушек: механического робота, шагающую куклу, посудный набор. Ждать поезда не стал, говорить было не о чем.
– Что это у вас с Машей за секретики? – спросила невестка на прощанье.
– Да пустяк, – отмахнулся Кирпиков, а самого так и обдало радостью.
И тем более чтоб не делиться ею с невесткой, он чуть не прытью побежал к Делярову. Дом Делярова стоял рядом с афанасьевским, а немного ближе к станции дом Зюкиных, а еще ближе буфет Ларисы. Буфет Кирпиков проскочил с ходу, а у Зюкина застрял.
– Зайди-ко, зайди! – закричал Вася.
Кирпиков подумал: надо зайти. Давно обещал, да и собака сдохла, бояться некого.
Открыл калитку, от конуры на него… залаяла здоровенная собака. Рыжая с черными глазами. Подскочила другая, третья сидела возле груды пустых посудин и жмурилась от их блеска.
– А говорили… – начал Кирпиков.
– Та-то сдохла, – радостно сказал Вася, – в землю закопал и надпись написал, а эта… вишь, входит в доверие. Цыц, зараза! (Собака облегченно умолкла.) Значит, та-то собака, – продолжал объяснять Зюкин, – сдохла, цепь, как говорится, опростала, а свято место не бывает пусто, прицепили эту. Вот сортировкой занимаюсь. Чего только люди не пьют. – И он стал, показывая этикетки, перечислять: – Вермут – выпьешь, деньги вернут, еще называют сквермут вермуть. Вот рислинг-кислинг. Солнцедар – солнцеудар по печени. Вот палаческая-стрелецкая. Вишь, мужик с топором. Стервецкая еще говорят.