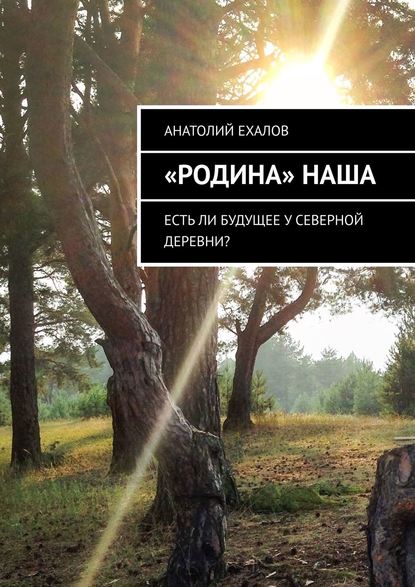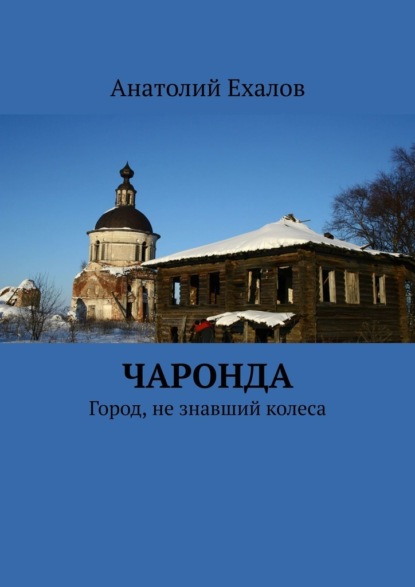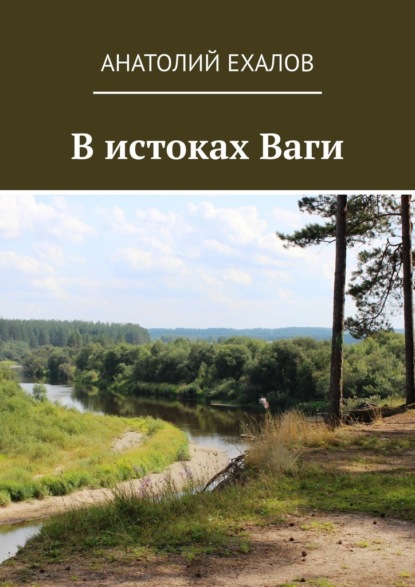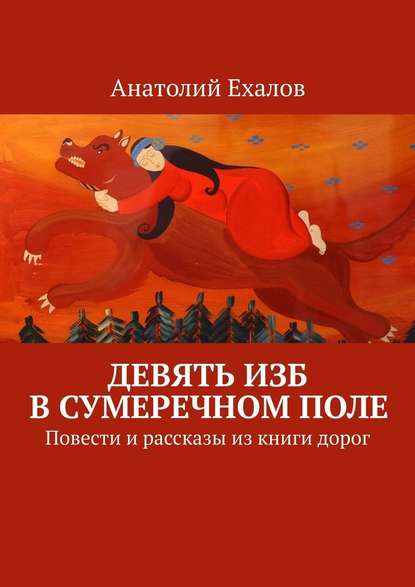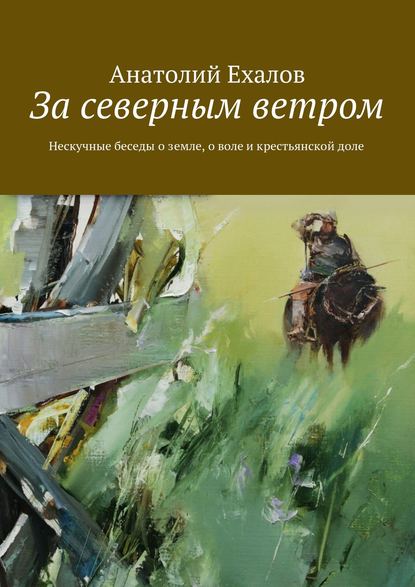
Полная версия
За северным ветром
…Хмурым сентябрьским утром на полупустынный перрон вологодского вокзала ступил из вагона скорого московского поезда высокий плечистый мужчина средних лет. Его встречали. Несколько человек в начальственных шляпах шагнули на встречу. Один из них, протягивая руку, представился:
– Милов – первый секретарь Вологодского обкома партии. Пока еще первый!
– Дрыгин! – отвечал на рукопожатие приезжий. – Бывший второй секретарь Ленинградского обкома партии.
Эта встреча на утреннем перроне была для Вологодчины, можно сказать, поворотной. Человек, вступивший на вологодскую землю, задержится на ней на двадцать пять лет и круто повернет ее судьбу. Хотя у этой встречи была своя предыстория.
17 сентября 1961 года в Кремле шло рядовое заседание Политбюро, на котором слушали кандидатов на различные государственные и партийные посты. На трибуне с докладом о подъеме сельского хозяйства Ленинградской области, все еще не оправившейся от оккупации, выступал второй секретарь Ленинградского обкома КПСС Дрыгин, которого рекомендовали на должность председателя Ленинградского облисполкома. Хрущев слушал в пол уха, перелистывая газету «Советская Россия». Но вот его внимание привлекла статья «Вологодское разнотравье», где корреспондент резко критиковал сельское хозяйство Вологодчины, которое по надоям, урожайности, поголовью скота опустилось ниже довоенного уровня.
Статья была хлесткая, и Хрущев не на шутку рассердился.
– Надо менять в Вологде первого! – повернулся он к своим помощникам.
– Никита Сергеевич! Еще и года не прошло, как сменили. Рано ожидать результатов.
Но Хрущева понесло. Действительно, недавно избранный первым секретарем Вологодского обкома Милов был специалистом в лесной промышленности, сельского хозяйства не знал и за год руководства областью не сумел, да и не мог решить проблемы, копившиеся десятилетиями.
– Менять! – отрубил Хрущев.
– Так ведь и заменить некем!
– А вот вам первый секретарь для Вологодчины, – и Хрущев указал на возвышающуюся утесом над трибуной фигуру Дрыгина.
Возникла тягучая пауза. И только ничего не подозревающий Дрыгин продолжал излагать план переустройства сельского хозяйства Ленинградской области.

По волокам
…После первых морозов и снегопадов по установившимся зимникам отправляла Вологодчина своих посланцев для знакомства с новым руководителем области.
Что представляла тогда область? Отрезанные от мира ужасным бездорожьем восточные районы: Никольск, Кич-Городок, Великий Устюг, куда только в весенний паводок можно было забросить жизненно необходимые грузы судами; запад с Вашками, Белозерском и Вытегрой при практически полном отсутствием дорог; север с Верховажьем и Тарногой, куда ни пассажирского, ни товарного…
От Никольска до Вологды 450 километров. При нынешних дорогах пять-шесть часов езды. А сорок лет назад… Сорок лет назад на заседание партхозактива в Вологду снаряжались, как на Северный полюс. Гусеничный трактор, тракторные дровни, на которых сооружался деревянный фургон с печкой для обогрева и приготовления пищи, с окнами и спальными местами на соломе. Для сопровождения делегации выделялся второй трактор, который тащил горючее для первого. Трактористы одевали ватные штаны, валенки с калошами, шубные рукавицы, разжигали в холодных, продуваемых морозными ветрами кабинах примусы для тепла. И в путь…
Такой обоз добирался до Вологды едва ли не неделю. Кроме партийных и хозяйственных руководителей, ехали в фургоне и простые люди: кто в больницу на операцию, кто по делам в город, кто на свадьбу с непременной гармошкой. Народу набивалось, что сельдей в бочку…
И сколько таких районных сел и городков отправляли тогда в Вологду на партийно-хозяйственный актив своих посланцев, чтобы те воочию увидели нового хозяина области. А новый хозяин уже с первых шагов своих на Вологодчине вызвал столько противоречивых толков и пересудов…
Известно было, что новый секретарь характер имеет прямой, жесткий, прошел войну, причем начал ее командиром взвода, а закончил командиром полка. Кто-то рассказывал, что самолично читал в газете заметку про то, как младший лейтенант Дрыгин в рукопашном бою один уничтожил девять фашистов, и что лучше его не доводить до кипения…
Трещат трактора посередь заиндевевшей морозной Вологодчины, медленно пробираясь заснеженными полями и лесами мимо тихо дремлющих, убаюканных метелями деревень, освещенных пока лишь керосиновыми лампами, мимо убогих скотных дворов, крытых соломой, мимо обезглавленных церквушек, превращенных в тракторные мастерские…
Потрескивают дрова в печурке, пофыркивает чайник, гармошка выводит незатейливый перебор… Сколько было в этих кибитках за неделю пути рассказано анекдотов, историй и баек, сколько было выпито водки и спето песен. Вот где формировался народный эпос и фольклор… Вот где рождались легенды и предания двадцатого века… Дорого бы я сегодня дал, чтобы вот так проехать в тракторных санях от, скажем, Никольска до Вологды и обратно.
Так кто же был кукурузником?
…Летом 1962 года Хрущев возвращался правительственным поездом из Архангельска в Москву. Было условлено, что в Вологде поезд сделает остановку, и Никита Сергеевич встретится с первыми лицами области.
Поезд приходил в шесть утра, и на холодном перроне за час до него выстроились пионеры с барабанами и горнами, руководители города и области. Шел мелкий холодный дождь. И вообще лето шестьдесят второго было чрезвычайно холодным. И, видимо поэтому, кукуруза на полях никак не хотела расти. Хоть ты ее за уши тащи! А Москва требовала едва ли не ежедневных победных реляций с кукурузных фронтов…
Накануне приезда Хрущева Дрыгин, возвращаясь с загородной дачи, заехал на учебно-опытные поля Молочного института. Было пять часов утра. На кукурузном поле споро работали трактора, запахивая «царицу полей», которая к августу едва ли поднялась сантиметров на пятьдесят. На краю поля стоял молодой кучерявый агроном и с явным удовлетворением наблюдал за работой тракторов.
Шофер Дрыгина подошел к нему:
– С Вами хочет говорить первый секретарь!
Молодой агроном ничуть не смутился и смело шагнул навстречу нахмуренному секретарю.
– Вы что это делаете? – грозно спросил Дрыгин.
– Запахиваем кукурузу под озимые! – отвечал агроном. – Не выросла, как ни бились, как ни ухаживали, ни подкармливали. Жалко трудов. Не по нашему теплу эта культура!
Дрыгин нахмурился еще больше, прошелся вдоль поля, сорвал несколько стеблей.
– Эти-то вот получше будут, – показал молодому агроному.
– Тут у нас навозная куча была, земля на метр пропиталась жижей, да и то – какая это кукуруза! Слезы горькие.
Дрыгин ничего не ответил, сел в машину и укатил в город. …Много позднее он расскажет молодому агроному Виктору Ардабьеву, ставшему к тому времени первым секретарем Никольского райкома партии, продолжение этой истории с кукурузой.
Правительственный поезд пришел без опозданий. На перрон вышли охранники, пионеры вскинули к небу горны, готовясь к встрече высокого гостя, начальство приосанилось, но Хрущев так и не появился. Ждали пять минут, десять… Хрущева не было. Над перроном повисло тягостное молчание. Тогда Дрыгин обратился к охранникам.
– Никита Сергеевич отдыхает, -отвечали те. – Он не выйдет.
– Но как же так? Его ждут! – возмутился Дрыгин.
– Повторяем. Он не выйдет.
– Тогда я пойду сам! Доложите!
Он раздвинул охрану и шагнул в вагон, уже набиравший ход. Столь решительные действия Дрыгина возымели результат. Один из охранников скрылся в купе, и минуту спустя из него вышел заспанный Хрущев в полосатой пижаме, поигрывая подтяжками.
– Чего тебе Толя? Чего шумишь? – спросил он миролюбиво Дрыгина. – Медали и ордена я все в Архангельске раздал, деньги там же пропил. Нет у меня ничего.
В коридоре уже собирались помощники и сопровождающие Хрущева лица, с интересом наблюдавшие за этой сценой.
– Да я ничего и не прошу.
– Так чего же ты хочешь?
– Я должен со всей ответственностью заявить, – сказал, напрягаясь как перед атакой, Дрыгин, – что кукуруза у нас не растет и вряд ли будет расти. Холодно у нас для нее. Холодно.
– А вы что, еще и кукурузу у себя садите? – вдруг прищурился хитро Хрущев.
– Да как же, согласно партийному курсу, – отвечал простодушно Дрыгин. – Повсеместно!
– Нет, вы видели таких дураков, – захохотал вдруг Хрущев. – Они на Севере садят кукурузу и еще жалуются, что она не растет. Вы бы ее еще на Полюсе посадили!
Дрыгин вышел из поезда в Грязовце и в тот же день распорядился запахать кукурузу повсеместно под озимые. Надо сказать, что озимая рожь тогда выросла на диво. А из Москвы все шли и шли распоряжения отдавать под кукурузу лучшие земли. Не работа, а хождение по минному полю.
По минным полям
…А Дрыгин хаживал и по настоящим минным полям. Вместе со второй ударной армией Власова под Мясным Бором Дрыгин попал в окружение. Он командовал тогда взводом. Немцы били по ним со всех калибров, с земли и с воздуха. И вдруг средь этого кромешного ада наступило затишье. Прибежал вестовой с приказом явиться в штаб то ли полка, то ли дивизии. В лесу под соснами сидели за столом понурые офицеры.
– Принято решение, -объявил старший, – о сдаче армии в плен. Приказ обсуждению не подлежит.
Офицеры еще ниже опустили головы.
И тут Дрыгин взорвался: – Да вы что, такая мать! Охренели! Он выдал, казалось, все матюги, которые встречались ему в жизни и ударил кулаком по столу: – Лично я сдаваться не собираюсь!
Повисла напряженная тишина. Дрыгин повернулся и пошел прочь по направлению к линии фронта.
– Я ждал, что вот-вот раздастся выстрел в затылок, и все на этом будет кончено. Пять шагов. Десять. Нет выстрела. Двадцать…
И тут к Дрыгину стали примыкать разрозненные бойцы. Выстрел так и не прозвучал… И они ушли. Их, не согласных сдаваться в плен, становилось все больше и больше. Сто, двести, пятьсот… Дрыгин принял командование на себя, сформировал взводы и роты, назначил командиров…
К Волхову их подошло уже более тысячи человек. Было тихо. Казалось, что фашистов нет и в помине. Только кружила над рекой немецкая рама-разведчик… С вечера стали готовить плавучие средства, а на рассвете в тумане начали переправу. И тут на них обрушился шквал огня… Из тысячи человек в живых осталось около семидесяти. Но эти семьдесят упорно шли к своим. И вышли…
Два месяца Дрыгина допрашивала контрразведка, шла проверка по всем каналам… Через два месяца ему вернули погоны и отправили на передовую…
«Кадры решают все»
Эта сталинская формулировка была для Дрыгина ключевой на протяжении всей вологодской командировки. Один из бывших партработников стал свидетелем телефонного разговора Анатолия Семеновича с молодым секретарем из Кириллова. Было это в начале шестидесятых.
– Все хоть там тебя слушаются? – спрашивал он, видимо, уже имея какую-то информацию с места.
– Да есть тут один председатель колхоза неуправляемый. Не слушается. Спорит и возражает до тошноты.
– Так вот! – зарокотало в трубке. – Если он плохо работает, собери бюро и сними с работы. За неделю сними. Но если он хорошо работает, то собери бюро, собери актив и поезжайте все к нему учиться. И учитесь, да спасибо говорите за учебу.
…Сидим у костра в лесу под Тотьмой с лесником Павлом Шаровым. Случайная встреча. Напились чаю. И почему-то разговор коснулся Дрыгина. И вот это случайный встречный такую историю выдает:
– После окончания Молочного института меня назначили директором Тотемского маслозавода, – мой собеседник угли прутиком мешает в кострище. – Маслобойки размещались в обычных крестьянских избах. Тем не менее, масло получали высокого качества. Но как вывезти его? Район огромный, дорог нет. И тут из Великого Устюга проездом побывал у нас начальник областного управления молочной промышленности Иван Петрович Толмачев. Поглядел он на наше хозяйство, пожал мне руку и заявил при всем коллективе, что из первой же пришедшей в область партии вездеходов Зил-157, одну машину он направит к нам в Тотьму.
Мы обрадовались, ждем. Но вот приходит разнарядка, а Тотьмы там нет. Я звоню Ивану Петровичу:
– Может ошибка какая закралась?
– Нет, никакой ошибки! Вам дадим машину в следующей партии.
А когда эта партия будет, Бог ее знает… А у нас продукция тоннами пропадает…
Я парень настырный был. Обидно стало. Лечу самолетом в Вологду – и к Толмачеву. Он меня из кабинета выгнал: «Не будет вам машины». Вышел я на улицу: куда идти, кому жаловаться? А перед глазами вывеска: «Обком партии». И решился я на обман. Захожу в вестибюль и… к милиционеру. Вот, говорю, прибыл на прием, вчера из райкома позвонили, говорят – должен быть у первого секретаря обкома в одиннадцать. Вот моя командировка, вот паспорт. Милиционера прошел, попал в приемную, ту же историю излагаю.
– Да нет, – говорят, – Вас в списке приглашенных.
Я скандалить начинаю, чтобы погромче было.
– Что вы думаете, – напираю, – я сам, что ли, это выдумал? Что мне, делать больше нечего?
– Доложите, – кричу, – первому секретарю. В общем, добился я приема. Кабинет большой, столы буквой «Т». Выходит мне навстречу огромный мужчина, глазами меня сверлит.
– Что это Вы, молодой человек, меня добиваетесь, скандалите в приемной, хотя никто Вас не приглашал?
Я ему все, как есть, выложил. Простите, говорю, за обман, но этот вопрос только Вы можете решить…
– Да, – покачал он головой. – Вот есть у нас еще такие областные руководители. Ездят, обещают, руки жмут, а потом ничего не делают! Сколько, -спрашивает, -тебе, сынок, лет?
– Двадцать четыре…
– И уже директор? А что? Правильно! Вот таких молодых, энергичных и нужно на руководящие должности ставить! Тут он снимает трубку:
– Товарищ Толмачев! – голос, что из бочки гудит. – Слушайте меня внимательно. Из приходящей партии вездеходов две машины направьте в Тотьму. Не одну, а две! Тот, слышу, начинает что-то блеять.
– Вы меня поняли! Я проверю. Все!
Обернулся ко мне: – Вот тебе мой номер телефона. Если опять обманут, звони мне!…
Звонить ему не пришлось. Уже тогда Дрыгина никто не смел ослушаться. Действительно, правил он круто. Рассказывают, однажды в кабинете первого секретаря Вашкинского райкома партии раздался ранним утром звонок из обкома. Первый секретарь был в отпуске, и на его месте находился второй.
– Как там у тебя с заготовкой кормов?
– Анатолий Семенович? Одну минуту, только возьму сводку.
– Не надо! Вы уже не секретарь!
По мнению Дрыгина, секретарь райкома настолько обязан владеть обстановкой, что подними его ночью с кровати, он должен без запинки ответить – какие в районе надои, сколько заготовлено сена, силоса, сенажа…
Своего преемника Валентина Александровича Купцова Дрыгин приметил еще в 60-годах. Простой сельский парень из деревни Миндюкино после армии трудился грузчиком на металлургическом комбинате. Из Воркуты приходили вагоны с углем, смерзшимся дорогой в монолит. И нужно было отбойным молотком вновь вырубать его. Работа – тяжелей не придумаешь. У Валентина отец, деревенский портной, ставший со временем председателем колхоза, незадолго до своей смерти увидев, как раздевается сын, заплакал. Все тело его было сплошным синяком от отбойного молотка. Но тут же отец и признался:
– За тебя, Валька, я не боюсь. Ты любую дорогу осилишь.
В 1974 году, когда Купцов работал уже вторым секретарем Череповецкого горкома партии, его присмотрели для работы в аппарате ЦК. Присмотрели-то, видимо, задолго до этого. Еще вовремя чехословацкого кризиса. Купцов был в то время в Чехословакии в качестве посланца череповецких металлургов. Тогда братские страны любили делиться опытом. И, стало быть, он сумел в этой критической ситуации достойно проявить себя…
И вот приглашение на работу в ЦК. Но в Москву Купцову не хотелось. Здесь, на Вологодчине, жизнь кипела ключом: строились и расширялись металлургический комбинат, аммофос, азотно-туковый, подшипниковый, оптико-механический заводы… В деревнях росли птицефабрики и животноводческие комплексы, прокладывались дороги в самые глухие углы…
Не любил Дрыгин отпускать на сторону кадры. Даже в Москву. Он воспитывал у своего окружения чувство особого вологодского патриотизма. Вот и для Купцова Вологодчина оказалась выше карьерных интересов. Перед отъездом в Москву Купцов зашел к Дрыгину.
– Чего не веселый? – спросил Дрыгин.
– Не хочу я в Москву.
– Верю, – поддержал Дрыгин. – Чего там в кабинетах штаны протирать? А у нас вон какие стройки развернуты. И в городе, и в селе. Работать надо. Ты, парень, вот чего сделай. Когда у тебя уже не будет аргументов отказываться, ты скажи просто, что не хочешь работать в ЦК. Так и скажи! А мы тебя здесь в обиду не дадим.
И вот полуторачасовой разговор в Москве с Долгих и Ястребовым. Решены вопросы по квартире, зарплате, определен круг задач… И вдруг это, ошарашившее больших партийных боссов, признание:
– Я не хочу работать в аппарате ЦК!
Несколько минут в кабинете стояла зловещая тишина. Наконец, Долгих с металлом в голосе проговорил:
– Нам не нужны люди, которые не хотят работать в аппарате ЦК!
Купцов рассказывал, что его после этой встречи, наверное, час бил озноб… Но явных последствий этого возмутительного с партийной позиции поведения в отношении Купцова не последовало. Видимо, Дрыгин сумел там в Москве снять напряжение… Да и перед коллегами своими, а с Ястребовым они были большими друзьями, мог погордиться: «Вот, мол, у меня какие верные и надежные ребята работают!»
Пройдет много лет, и выходец из вологодской деревни Миндюкино Валентин Купцов не страшась, встанет на защиту коммунистической партии в Конституционном суде. И сумеет отстоять ее.
…Рассказывают, что Брежнева он, Дрыгин, Леней называл. Вполне вероятно, что между ними были такие вот товарищеские отношения. Но и то верно, что шапки Анатолий Семенович ни перед кем не ломал, ни перед кем не преклонялся, а упорно гнул свою линию.
Его считали руководителем жестким, авторитарным. Однажды во время заседания бюро обкома один из чиновников воспротивился назначению на ответственную и тяжелую должность. Дрыгин среагировал мгновенно:
– Есть предложение исключить этого товарища из партии, снять с работы и впредь никаких должностей ему не предлагать.
Проголосовали единогласно. Кто мог воспротивиться воле Дрыгина? Но обиженный чиновник не смог сдержаться.
– Я жаловаться буду! -воскликнул он.
– Жалуйся, – равнодушно уже отвечал Дрыгин. И добавил насмешливо: – Фиделю Кастро…
– Да, он был жестким руководителем, – подтверждает Валентин Александрович Купцов, – но справедливым. И он сумел подобрать по всей области такие кадры и в партийных, и советских органах, которые работали творчески, вдохновенно или по крайней мере ответственно, что позволило уже к середине семидесятых годов вывести область из отстающих в передовые…
Один из руководителей районного партийного звена вспоминает, как поехали они группой на южный курорт в пансионат ЦК КПСС. Понятное дело, расслабились. По паре раз в ресторан сходили, вино, шашлыки… Деньги улетучились быстро.
– И тут приходит перевод на сто рублей, – рассказывал он. – Я даже испугался. Откуда? Может, взятка какая? Штамп смазанный, неясный…
А потом, несколько месяцев спустя, Дрыгин подходит на пленуме: – Ну, получили переводы-то? Это я вам на папиросы послал, что бы вы у жен денег не просили…
И чувство юмора было свойственно Анатолию Семеновичу.
Никольский таракан
Однажды в одном восточном районе он целый день ездил по животноводческим фермам. И чем больше он ездил, тем мрачней становился. Фермы полуразвалившиеся, навозом заросшие, скот истощен до предела. Какое тут молоко! Районное начальство ни живо, ни мертво молча ходило сзади на приличном расстоянии от секретаря… Наконец, под вечер Дрыгин согласился пообедать. В районной столовой подали ему наваристого борща. Но рядом никто сесть не осмелился. Да Дрыгин и не приглашал, что означало его крайнюю степень недовольства.
– Ну, может, поест, так подобреет, – не теряли еще надежды районные начальники.
Зачерпнул Дрыгин ложкой борща, а в ложке… А в ложке… Надо представить себе реакцию районного начальства… О ужас! В ложке огромный, распластанный таракан… Ложка замерла на полпути, Дрыгин набычился, в столовой воцарилась нехорошая тишина… А Дрыгин вытащил таракана из ложки и положил его рядом. Из-за спин вытолкнули бледного заведующего столовой.
– Мы сейчас, Анатолий Семенович! Мы заменим… – залепетал тот.
– Не надо, – остановил его Дрыгин. – Еще какого лешего мне туда положите!
И выхлебал борщ без остатка.
Вечером, когда самолет скрылся в облаках, начальство облегченно вздохнуло: «Похоже, пронесло!» А спустя месяц на партхозактиве Дрыгин отложил в сторону доклад и обратился в зал: – Был тут недавно на востоке. До чего довели скот, что на ногах не стоит, к балкам пожарными рукавами привязывают! Но зато таких тараканов научились откармливать…
Год за три
Когда начинаешь раздумывать о лидерах нашей сельскохозяйственной деятельности, то в предках их обязательно сыщется крепкий крестьянский корень. И думаешь о неистребимости этого корня. Есть такая пословица: «они закапывали нас в землю, а оказалось, что мы семена…»
Виктор Ардабьев родился в селе Уварово Тамбовской области за два года до начала войны. Деревня утопала в садах, а черноземы родили пшеницу, равной которой в мире не было. У деда было приличное хозяйство: четыре лошади, две мельницы. Однажды к нему пришли сыновья.
Отец Виктора в селе был уважаемым человеком – директор школы. А дядя работал председателем сельсовета.
– Отец, – сказали они. – Пришла разнарядка. Ты первый по списку на раскулачивание. Отдай мельницы и коней в колхоз, иначе вышлют…
Дед не спал всю ночь. Жалко было трудов. Наутро пришел в сельсовет с заявлением в колхоз.
Когда началась война, отца оставили в тылу по брони. Но уже через три месяца он ушел добровольцем на фронт. Враг был уже под Москвой. Мать в то время была беременна пятым. Все, что оставил нам отец, уходя на фронт, – три буханки круглого хлеба. Через три месяца он погиб: пропал без вести. Мать не верила в его гибель, но вынуждена была променять его кожаное пальто на мешок картошки.
Уже после войны они ездили на места боев, искали хоть какой-то след. Мать ждала: вдруг придет, вдруг постучит в дверь…
Его друг и сослуживец не раз говорил матери:
– Он может придти к тебе только с кладбища, я сам видел в воронке его ноги и сапоги…
Наверное, самым тяжелым и критическим для области временем было лето 1978 года. С весны зарядили дожди и шли с таким упорством, что в души людей начала закрадываться тревога. Эта тревога поселилась и в душе первого секретаря Никольского райкома партии Виктора Ардабьева. Он начал осаждать телефонными звонками председателя облпотребсоюза Сазонова:
– Завезите в район муку как можно раньше!
А потребности в муке были не малые. За год Никольск съедал ее 10 тысяч тонн. Но облпотребсоюз не спешил. Ардабьев звонил снова и снова. Наконец, не выдержав, заявил, что если население района останется без хлеба, то в первую голову отвечать за это придется Сазонову.
Надо сказать, что Сазонов был лучшим другом Анатолия Семеновича. И во всех его поездках по области Сазонов сопровождал Дрыгина. Но угрозы Ардабьева, похоже, возымели действие – облпотребсоюз муку завез в полном объеме, прежде чем пали дороги.
Самые худшие предчувствия оправдались. На область обрушилось стихийное бедствие: все лето и осень шли бесконечные дожди. В области было объявлено чрезвычайное положение. На поля можно было выйти только с косой в бродовых сапогах. Комбайны тонули тут же, будь они на резиновом и даже на гусеничном ходу, воинские подразделения выделили для связи с населенными пунктами бронетранспортеры, но и те с великим трудом пробивались по дорогам, превратившимся в сплошные грязевые болота. Все мосты через речки были или снесены или разбиты тяжелой техникой. Молоко с ферм в районы приходилось доставлять вертолетами… Если бы не мука, доставленная во время по деревням, то был бы самый настоящий голод…
Дрыгин каждую уборочную страду облетал или объезжал область. Ездили к утопающим в воде полям, летали к отрезанным от мира бездорожьем деревням. Смотрели строящиеся новые скотные дворы, мастерские, жилье…
Прилетел и в Никольск. Утром, садясь в машину, отдал приказание: «Едем в «Павлова» на фермы!» То есть, в пригородный колхоз имени Павлова. Ардабьев, зная, что Дрыгин на одно ухо глуховат, решительным шепотом поменял маршрут: «Едем в «Искра Ленина!»
Дрыгин сурово молчал, осматривая новые фермы в колхозе. Вечером перед ужином пошли мыть руки. Ардабьев протянул Дрыгину полотенце. Тот вытер руки и бросил ему скомканное полотенце, наливаясь гневом: