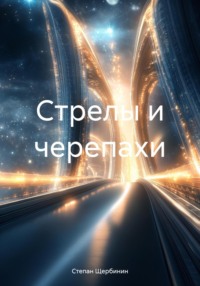Полная версия
Превратности Фортуны
Я даже немного пожалела, когда лимузин остановился возле моего дома, и речь Августа пришла к завершению. Он вышел со мной вместе, на прощание крепко обнял и долго сжимал в объятиях. Я уж начала надеяться: наконец-то он меня поцелует, но нет. Я списала это на счёт того, что состоявшийся разговор был посвящён столь неприятным ему людям.
– Будь осторожна, – сказал Август, разжимая объятия.
Он уехал, а я, сделав крюк в магазин за пивом, отправилась домой. Перед сном я выпила бутылку, чтобы приглушить невесёлые думы.
С одной стороны, разговоры с Мамашей Сейбой, что прошлый, что этот, оставили приятное, тёплое впечатление. На сердце после них было легко и светло. С другой стороны, могу ли я так просто взять и довериться ей? Само собой, нет. То, насколько она влиятельна, и то, какая сосредоточена в её руках власть, пугало меня. Кто сказал, что подаренная ей шапочка – это именно защита от психосфер, а не средство контроля разума? Да и вообще, не просто же так она добра ко мне. Не будь я помощницей Августа, она бы со мной даже не заговорила. Да что там не заговорила: даже не знала о моём существовании. То есть я для неё – рычаг воздействия на Августа, хоть и непонятно, каким образом она предполагает это воздействие осуществлять.
А что до светлого и приятного чувства от общения с ней, так про это ещё тот парень, Сурентий, говорил. Дескать, у Мамаши есть дар вызывать в людях подобные эмоции – и она использует этот дар в корыстных целях: чтобы прихожан заманивать. Или меня. Сурентий в своей обвинительной тираде был искренен, это очевидно. Хотя что я знаю об этом парне? В сущности, ничего. Может, он просто поехавший. Да и что, кстати, он делал на церемонии с Мамашей Сейбой, если так к ней относится? И почему оказался на моём пути? Случайность ли это?
Но ведь Август тоже предостерегал меня по поводу Сейбы. Только вот, с нехорошим холодком внутри подумала я, могу ли я доверять Августу? Вопрос о том, почему он взял меня в помощницы, до сих пор открыт и нисколько не потерял своей мутности. А предшествовавшая этому история с моим мёртвым бывшим? Сегодняшние намёки Перфидия были некрасивы, но они были по делу.
Только вот с чего мне верить тому же Перфидию? Я понятия не имею, что он замыслил. Может, он хитроумно манипулирует мной с целью добраться до Августа, и потому говорит то, что говорит. А есть ещё психосферы! Хотя нет, как раз о них, можно, пожалуй, не беспокоиться. Августу совершенно точно невыгодно, чтобы его помощница подпала под влияние Перфидия, значит, он предупредил бы меня, будь такая опасность реальна. Если только…
Если только Август не заодно с Перфидием! Но эта мысль оказалась для моей бедной головы уже чересчур: я обхватила руками виски и легонько застонала. Нет, пожалуй, тут стоит остановиться.
В любом случае ситуация сложилась неутешительная. Со всех сторон выходило, что доверять некому: слишком мало я знала тех людей, с которыми меня столкнула судьба. Да и судьба ли? Не ведёт ли мою жизнь невидимая рука, управляемая чьей-то неведомой волей?
5
На следующий день я, как и планировала, не стала пить и даже проснулась сильно до полудня. Одолевавшие меня предыдущие дни навязчивые мысли неожиданно отступили на второй план, дав дорогу рассуждениям о совершенно несвойственном мне предмете: религии. Видно, мой мозг запустил мыслительные процессы на эту тему во время сна, пока укладывал воспоминания о вчерашнем дне, в течение которого было так много разговоров о боге.
Когда-то давно, ещё в средних классах, я решила для себя этот вопрос так: не знаю, есть ли над нами какое-то всевышнее существо, некий Абсолют, но даже если есть, то это существо точно не имеет ничего общего с тем, что написано во всевозможных священных текстах. Тогда же я пришла и к выводу, что люди, которые верят в Валис, делают это просто из страха перед неизбежной смертью. Они боятся грядущего небытия – вот и обманывают себя сказочками из Писания про вечную жизнь.
Я, конечно, точно так же как и все, трепетала от мыслей о неизбежности смерти, осознание конечности собственной жизни приводило меня в ужас. Разумеется, я тоже страстно хотела верить, что после смерти физического тела останется от меня какая-то штука, которая будет жить дальше. Однако лгать самой себе я не могла – и потому сторонилась всех этих религиозных историй, испытывая лёгкое презрение к тем, кто, как я считала, дал себе увязнуть в трясине самообмана. Принять сердцем валисианство оказалось бы для меня сродни тому, чтобы признать равнозначность между просмотром симуляции лесов Земли и личным пребыванием в этих лесах.
При этом я вполне допускала, что есть какие-то непостижимые человеческим разумом сущности, которые могут влиять на людские судьбы. Вот только едва ли какая-то из них создала мир и может дать вечную жизнь. Да и вообще большой вопрос, чего эти сущности хотят и стоит ли тратить бесценное время своей жизни на следование их наказам.
Сейчас же, анализируя поведение и речи Августа, Перфидия, Сейбы и, быть может, Сурентия, я невольно задалась вопросом: а действительно ли эти люди из тех, кто вот так просто возьмёт и погрязнет в собственной лжи? Быть может, причина их религиозности – это нечто большее, чем просто страх перед смертью? Вспомнив, что вчера и Перфидий, и Сурентий поминали одну и ту же книгу, «Бхагавад-гиту», я решила её почитать, пока готовила и ела завтрак, попивая утренние бодрящие напитки.
Для начала я поглядела в Сети краткое описание. Завязка истории была ровно такая, как рассказал Перфидий. Две колоссальные рати противоборствующих группировок: пандавов и кауравов – собираются сойтись в окончательной лютой сече, которая определит исход их великого противостояния. Однако в решающий момент главнокомандующий пандавов по имени Арджуна останавливает свою колесницу, будучи не в состоянии начать битву. Очень удачно колесничим Арджуны оказывается Кришна, полный аватар Бога. Аватар, как я сумела понять, это что-то вроде того, кем считается Иисус в валисианстве: снизошедшим в человеческом облике на Землю Всевышним.
И, значит, всё содержание «Бхагавад-гиты» сводится к разговору Кришны и Арджуны, каковой те неспешно ведут, пока две армии покорно ждут, до чего эта парочка договорится.
Уяснив это, я отыскала в Сети перевод того самого Бориса Смирнова, который советовал Перфидий, и принялась продираться сквозь дебри старинного текста. Перед собственно переводом «Бхагавад-гиты» шло внагрузку нуднейшее предисловие, которое я благополучно пропустила. Только вот и сам священный текст оказался ничуть не интереснее.
Кое-как одолев первые две главы, я поняла вот что. Кришна говорит, что можно совершенно не беспокоиться насчёт убийства кого-либо, ведь в каждом живёт бессмертная душа (ага, отметила я про себя, типичная религиозная история, чтобы сгладить человеческий страх смерти), которая потом переродится в новом теле; стало быть, никто на самом деле не рождается и не умирает – всё едино. Дескать, «равны счастье, несчастье, неудача и достиженье, пораженье, победа». Но при этом почему-то всё равно нужно идти и биться, ведь так велит какой-то там долг. Мол, надо что-то делать не ради достижения какой-то цели, а просто потому, что потому.
Дальше я читать не смогла: текст стал совсем уж невыносимо мутным и скучным. Я поразмыслила, а не посмотреть ли в Сети описание простыми словами с толкованиями, но решила, что смысла в этом нет. Такое произведение каждый может интерпретировать как вздумается, не особо заботясь о том, что на самом деле написано. Да есть ли там вообще это «на самом деле»?
За такими размышлениями меня застало сообщение от Перфидия. Точнее, отправитель значился как «неизвестный контакт», однако на фото профиля было знакомое мне по вчерашнему дню лицо.
«Привет, – гласило сообщение. – Надеюсь, не слишком занята. Поболтаем?»
Сообщение завершалось эмодзи с умиротворённой улыбкой и румяными щёчками, какого никак не ждёшь в приглашении на беседу от полицейского чина. Я ответила, что ничем не занята, и спустя полчаса авто с Перфидием ожидало меня у подъезда. Он опять повёз меня в заведение, но не в то, где мы были прошлый раз, а в какое-то другое.
Подумав, что если мне не отвертеться от бесед с великим сыщиком, то пусть от него будет хоть какая-то польза. Пусть, например, прольёт свет на вопросы, которыми я задавалась всё утро. Пока авто выруливало на межрайонную дорогу, я объявила, что почитала «Бхагавад-гиту», и это вызвало у Перфидия граничащую с восторгом реакцию. Я начала с того, что ничего не знала про эту книгу до вчерашнего дня, и в школе нам про неё не рассказывали.
– Здесь нет ничего удивительного, – пожал плечами Перфидий. – «Бхагавад-гита» не входит в канон валисианства. С точки зрения нашей Церкви это текст ложной веры, как и все тексты любой другой религии, кроме валисианства. Все их можно читать для ознакомления, для изучения, но проповедовать их, а уж тем более смущать ими неокрепшие детские умы в школах – ни в коем случае.
– Вот оно как, – удивилась я, ведь «Бхагавад-гита» выглядела точь-в-точь как самые древние тексты валисианства. – Зачем же ты её мне тогда посоветовал?
– Я же не Церковь, – улыбнулся он. – Я скромный полицейский, который среди сотен дорог пытается найти сердца путь, путь, ведущий к Богу. Как по мне, Кришна – это ещё одно из имён Бога, как Валис или Джа. Древние индусы знали его под таким именем, древние эфиопы – под другим. Да и не только имена у них различны: на первый взгляд может показаться, будто один и тот же Бог говорит совершенно разные вещи. Валис устами Иисуса призывает к милосердию, а Кришна объясняет Арджуне, что надо взять в руки оружие и сражаться.
– А ведь точно, – я удивилась, что сама этого не заметила. – Но как такое может быть?
– Во-первых, если ты вспомнишь другого Иисуса, Навина, то ему Бог велел вырезать несколько народов, не щадя даже младенцев. А во-вторых, в диалоге ведь всегда два участника. Бог никогда не говорит в пустоту, напротив: Он всегда говорит с человеком. И делает это на том языке, который человеку понятен. Во времена Иисуса Навина таким языком был язык геноцидов, ко времени же Иисуса Христа человечество оказалось способно воспринять идею, что все люди – братья.
– Но ведь должно же быть и что-то общее в его словах? Если это один и тот же бог, пусть и в разные времена.
– Смотришь в корень, – Перфидий одобрительно мигнул. – Конечно, общее есть. Это призыв к нравственному поведению. Нормы морали сильно отличаются для разных времён и разных обществ. С нашей современной точки зрения пандавы и кауравы почти одинаковы в своей мерзости. Но пандавы всё-таки самую малость получше, поэтому Кришна оказался на их стороне. Точно так же и Джа стал на сторону евреев потому, что они были немного лучше соседних народов, хотя современный невооружённый взгляд не смог бы найти между ними и теми же ханаанами никаких различий.
– Но почему именно моральный закон так важен для бога? Почему не что-то ещё? – я вспомнила, как о чём-то таком говорила та парочка, пока мы ехали в космопорт.
– Потому что Бог – это персонификация нравственного закона, – Перфидий многозначительно посмотрел на меня, улыбаясь уголками губ.
– Как это? – я не стала даже пытаться гадать, что он имеет в виду.
– Это очень просто. Начиная с самой зари своей истории люди персонифицировали силы, с которыми сталкивались, представляли их как одушевлённые существа. Это древнейший способ человека осмыслить мир и договориться с ним. Первые персонификации были звериные, ибо именно животные оказывались непосредственными соперниками, угрозами, объектами охоты и подражания. Причём персонифицировался не конкретный, например, медведь, а медведь вообще, сама идея медведя. У шаманов архаических культур часто есть звериный облик, маски, тотемы. Животное – это сила, с которой нужно считаться, чей дух можно призвать или в которую можно превратиться.
– Дальше, – продолжал Перфидий, – человек стал персонифицировать сущности мощнее зверей: лес, гром, солнце и прочее. Так появляются боги леса, например, Велес, боги солнца, тот же Митра, боги плодородия и прочая, прочая. А чем дальше, тем больше растёт уровень абстракции персонифицируемых через богов сил: например, правосудие – это Маат, Фемида; любовь – Иштар, Афродита. И, наконец, человек приходит к персонификации высшей стоящей над ним абстрактной силы: нравственного закона.
– Это отлично видно в Нагорной проповеди, – вёл свою речь Перфидий. – Иисус говорит, что важно не только не убивать, но даже не гневаться на другого человека, возлюбить не одних лишь ближних, но и врагов своих. Притом важно это не для других, а для самого человека, Иисус говорит, чтобы при подаче милостыни не трубили об этом на каждом углу, но делали втайне, дабы знал только сам дающий. Тогда Бог, видящий насквозь человека и всё, что ни есть в мире, вознаградит его. То же Иисус говорит и про молитву, и про пост: делайте это так, чтобы об этом не знал никто, кроме самого человека и, разумеется, Бога.
Перфидий, придав своему лицу выражение особенной одухотворённости, произнёс:
– Когда Иисуса спросили, какая заповедь самая великая, он сказал, что это «полюби Господа Бога твоего от всего сердца и от всей души, и всем разумом!» А Бог, как ты уже знаешь, – это персонификация нравственного закона. На втором же месте, как сказал Иисус, заповедь, подобная первой: «Полюби ближнего, как самого себя». А ещё он говорит, что «Отец твой, видя потаённое, тебе воздаст». А также: «Просите – и вам будет дано. Ищите – и найдёте. Стучите – и вам отворят. Ведь всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему отворяют».
Закончив с цитатами, он проговорил:
– Иными словами, воздаяние за следование нравственному закону или нарушение его приходит независимо от того, знает ли о поведении человека кто-то, кроме него самого. Эта логика взаимодействия со Всевышним работает для Валиса, Джа, Аллаха, Кришны, Шивы – всех богов, персонифицирующих нравственный закон. Все эти всевышние Боги говорят по-разному об одном и том же: о том, насколько важно следовать нравственному закону. От себя добавлю, что это, быть может, самое важное в жизни человека. Моральный закон – это раствор, который соединяет кирпичики отдельных людей в целостное здание человеческого общества. Ещё в 20-м веке учёные установили, что радикальное усложнение общества предшествует появлению богов-морализаторов, то есть появлению веры в сверхъестественное вознаграждение за нравственное поведение. Такая вера возникает, как правило, после достижения обществом численности порядка миллиона человек. Без морального закона человеческое общество просто рассыпалось бы, да что там: не смогло бы даже собраться как следует.
– Но тогда ведь получается, что бог – это просто такая иллюзия, которая придумана, чтобы держать людей в узде. А на самом деле его нет, – я не смогла устоять перед искушением озвучить неминуемо возникшие в моей голове мысли.
– Скажешь тоже, – рассмеялся Перфидий. – Вовсе нет. Ты разве забыла, что во славу Бога строятся храмы, совершают службы? Миллиарды людей не мыслят своей жизни без Него. Хороша же иллюзия!
Я была не согласна, но не могла выразить, с чем именно. Видя моё замешательство, Перфидий решил помочь:
– Давай-ка поясню на примере. Наверняка твой начальник предупредил тебя на мой счёт, что я весь из себя такой опасный и коварный, поэтому нужно обязательно держать ухо востро и не расслабляться ни на мгновение.
Я промолчала: не хотелось открыто врать под проницательным взором умных глаз Перфидия, но и выдавать правду насчёт Августа я тоже не собиралась.
– И что же получается? Августа сейчас рядом нет, – мягко продолжал он с улыбкой, – а ты всё равно сидишь и думаешь, как бы не сболтнуть лишнего. Образ шефа существует прямо здесь и сейчас, воздействуя на твоё поведение. Точно так же образ Бога присутствует в каждом человеке и выступает незримым надзирателем всякий раз, когда тот хочет совершить очередную подлость или гнусность. Когда в Нагорной проповеди Иисус говорит, что Бог видит всё совершаемое тайно, то речь именно об этом. Вспомни Родиона Раскольникова, который думал, будто может легко и непринуждённо зарубить старушку, а единственной его проблемой будет полиция. Но не тут-то было: карающая длань нравственного закона так схватила его за одно место, что он чуть с ума не сошёл, и спасся только через своевременное покаяние.
Разговор на эти высокие темы начинал меня постепенно утомлять, и я отметила: вот о чём предупреждал Август. Но Перфидий, похоже, вошёл во вкус.
– Хороша же иллюзия! – повторил он ещё раз. – Моральный закон, с одной стороны, существует внутри каждого человека, а с другой стороны, индивидуальные умы создают единое умственное поле человечества. Поле это является субстратом для пребывания надчеловеческого нравственного закона, или Бога, и с такого уровня он отображается в каждый отдельный ум. Что здесь первично: индивидуальное или надчеловеческое – даже не спрашивай, никто не знает. Да это и не имеет значения. И точно так же неважно, верит кто-то в Бога или нет. Бог от этого не перестаёт существовать, каждый человек ощущает на себе Его действие. Уж я, поверь, точно ощущаю. Это настолько важная часть меня, что следование велению Бога для меня равнозначно сохранению себя. Потому «Бхагавад-гита» так мила моему сердцу. Ведь там нравственная дилемма возведена до такого уровня, что человек считает моральный закон выше своей жизни. Арджуна предпочтёт быть убитым, нежели нарушить его. Нравственный закон настолько пророс в него, стал настолько важной его частью, что нарушение закона означает такую трансформацию, которая равнозначна смерти. Даже больше того: в разы хуже смерти!
Вспомнив, что говорил Август, я не удержалась:
– Но это вовсе не мешает заводить несовершеннолетних любовниц, – ляпнула и тут же пожалела.
Но Перфидий совсем даже не растерялся – он рассмеялся, поднимая руки вверх пустыми ладонями ко мне:
– Каюсь, грешен. Однако в самом ли деле нарушил я моральный закон? Когда наш роман начался, ей оставалось всего полгода до двадцати одного, до совершеннолетия. Вот представь, что мы с тобой закрутили роман, – Перфидий откинулся на спинку дивана и, не спеша, поменял положение своих скрещённых ног.
– Допустим, – ответила я, чувствуя, как стремительно краснею: оказалось, что великий сыщик не носил под юбкой белья.
– А теперь представь, что мы закрутили с тобой роман, когда тебе было только двадцать, когда ты в школе ещё училась, – невозмутимо продолжил Перфидий.
– Ладно, – я слегка тряхнула волосами.
Возраст Перфидия был примерно как у того дядечки-учителя, что подпал под действие чар моей одноклассницы. Однако возможность романтической связи в этом случае не казалась мне слишком уж немыслимой, поскольку от сыщика исходили манящие вибрации уверенного в себе самца, твёрдо сжимающего штурвал своей жизни; это вдобавок к пронизывающему его старомодные манеры очарованию. Я почувствовала, что покраснела ещё немножечко сильнее.
– Но разве за это время, при переходе от двадцати к двадцати одному что-то в тебе кардинально изменилось? Что-то такое случилось, из-за чего наша гипотетическая, – он подчеркнул интонацией это слово, – любовная связь перестала быть симптомом болезни, но превратилась в совершенно обычную историю?
– Наверное, нет. Ничего такого, – я кивнула, немного поразмыслив. Раньше мне как-то не приходило в голову посмотреть с подобной стороны на романтические отношения между взрослыми и несовершеннолетними.
– Вот и я о том же. Тем не менее, ты в очередной раз затронула чрезвычайно важную тему. Точно так же, как нравственный закон по-разному формулируется в разное время и для разных культур, он по-разному отображается с надчеловеческого уровня в каждого конкретного человека и в каждую конкретную ситуацию. Однако чтобы следить за соблюдением нравственного закона и выправлять сбои, приходится вводить суррогат Бога: формулировки, единые для всех людей и ситуаций, – а затем лечить нарушающих эти формулировки с помощью чипов. Нельзя сказать, что это как-то однозначно хорошо или плохо, но это единственно возможный способ исправлять сбои, которых никак не избежать при работе морального закона на уровне отдельных людей.
– Вообще-то, – Перфидий кивнул своим словам, словно пытаясь добавить им веса, – современное общество далеко ушло по сравнению с тем, что было в прошлом. Раньше больных называли преступниками, всячески их порицали и чуть ли не считали недолюдьми. Сейчас же от этого, слава Валису, отказались. Больной человек болен не с точки зрения его самого, а с точки зрения на человека как на винтик общества, как на клетку единого организма. Теперь быть больным не стыдно, это не осуждается, не стигматизируется, но просто лечится. По сути, сейчас признаётся, что чипы – суть вынужденная мера, которую мы используем за неимением лучшего. Оттого совсем не обязательно лечить всех больных, главное – вылавливать бОльшую их часть. Ведь цель лечения чипами не какая-то там высшая справедливость, которая, несомненно, недостижима таким образом, потому что её невозможно формализовать. Цель чипирования в обеспечении устойчивости общества.
Перфидий ещё немного порассуждал на тему встречи с соблазном преступить моральное правило, которое для него будет по-настоящему важно. В этом случае он хорошенько подумает, прежде чем так сделать, и, скорее всего, не решится, ибо Божья кара страшнее смерти. Затем он, как и прошлый раз, расплатился за меня по счёту, и мы отправились в обратный путь.
Сидя в авто, я сообразила, что великий сыщик ни словом не обмолвился о темах, связанных с расследованием. Когда я сказала об этом, Перфидий картинно хлопнул себя рукой по лбу:
– А ведь точно! Как я мог забыть. Хотя, по правде сказать, я считаю, что для милой беседы с очаровательной барышней не нужен никакой повод. Ты же хочешь узнать насчёт психосфер, откуда они взялись?
Получив мой утвердительный ответ, Перфидий вытащил стопку листов, испещрённых чёрными буквами:
– Тогда держи. Это заметки Сурентия Шиванова про его путешествие, в завершении которого он встретил тебя и ту парочку. Не удивляйся, это настоящая бумага, распечатка текста. Видишь ли, заметки эти слишком секретны, чтобы распространять их в электронном виде. Так что, умоляю тебя, не снимай с них копии. Прочитаешь – и вернёшь мне. А если что-то будет непонятно, так не стесняйся писать мне. Да и звонить не стесняйся, если изволишь.
На этом мы и разошлись: Перфидий высадил меня из авто прямо у подъезда.
Придя домой, я достала распечатку и с тоской посмотрела на эту стопку листов. Здорово было бы загнать записки Сурентия в нейросеть, чтобы та выдала мне краткий пересказ. Но это надо их фоткать, распознавать: морока та ещё. Да и Перфидий говорил, что нельзя эти записки в электронный вид переводить, слишком уж секретные.
Значит, придётся читать, как бы это ни было похоже на чтение романов, которым увлекался мой бывший. Тот бывший, который жив. Странно, но воспоминания не вызвали во мне раздражения. Наоборот: я ощутила нежность к этому остолопу. В конце концов, он не пытался меня убить или заморочить голову с непонятной целью. Его мотивы были чисты и непорочны. Всё, что ему было нужно, это лишь я сама да немного половой близости со мной. Его ко мне любовь не вызывала сомнений. А вот чего от меня нужно Августу, Сейбе и Перфидию – поди разберись.
А ведь я, пожалуй, нехорошо поступала с моим нейрохудожником, изводя его и манипулируя им. Верно говорил Перфидий, что нравственный закон невыразим словами. Те суждения, которыми я оправдывала свои манипуляции, с точки зрения логики выглядят вроде как неплохо. Однако сердце моё, если прислушаться, недвусмысленно говорило, что я вела себя низко и недостойно. И это суждение сердца гораздо важнее, правильнее всех тех словесных построений, что я придумывала в своё оправдание.
Меня охватила тоска по тому безвозвратно утерянному прошлому, когда всё было просто и понятно. Прошлому, в котором было на порядок меньше тревог и волнений, чем в настоящем. Эх, кто бы мне сказал, что делать теперь, во что верить или куда бежать?
Я поспешила скрыться от этих вопросов и от вызвавшей их тоски в чтение записок Сурентия. Читать, на удивление, оказалось интересно, и я довольно скоро погрузилась в текст. Вот что там было рассказано.
«Я пишу эти строки не столько для того, чтобы предоставить отчёт начальству о моём путешествии. Хотя и для этого тоже, ведь имплант-камера сломалась, едва началось что-то заслуживающее внимания (впрочем, останься даже она цела, я уверен, что запечатлённый ею материал выглядел бы пьесой в театре абсурда, сыгранной вдобавок умалишёнными). Цель моих записей также и не в том, чтобы пролить свет на загадочную катастрофу, постигшую Ефросинью полвека назад, пусть я и надеюсь, что они будут опубликованы в открытом доступе, став достоянием историков и журналистов. Нет, прежде всего я стремлюсь сам постичь и уложить в уме то, чего я стал свидетелем и участником.