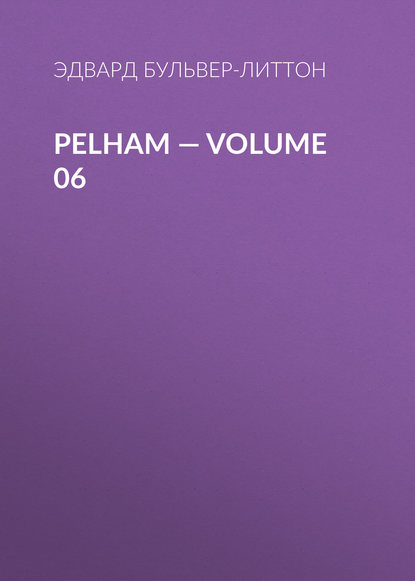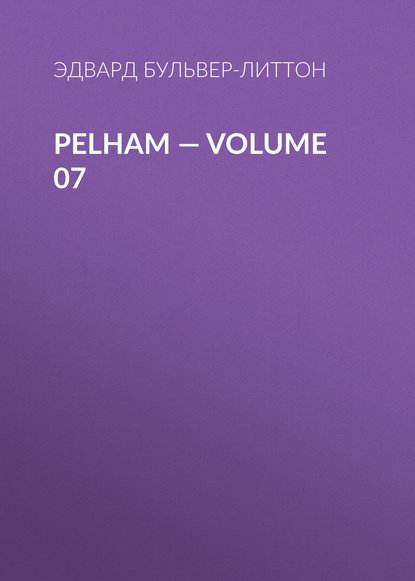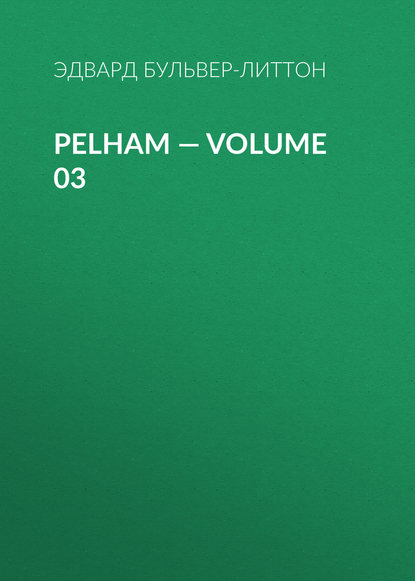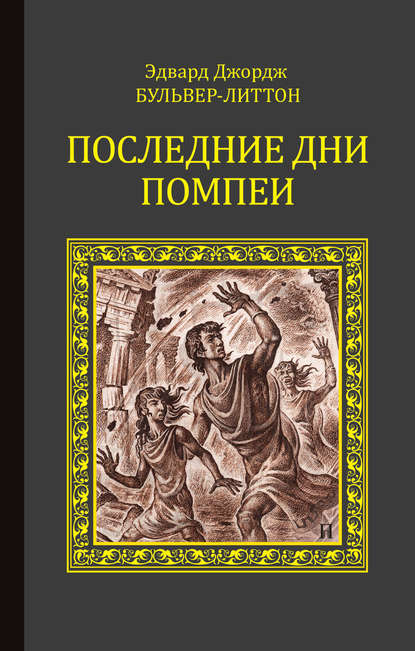
Полная версия
Последние дни Помпеи
Апекидес молчал, но менялся в лице, и на выразительных чертах его можно было прочесть, какое сильное впечатление произвели на него слова египтянина, слова, красноречие которых становилось еще убедительнее благодаря звуку голоса, выражению лица и вкрадчивым манерам Арбака.
– Вот так-то, – продолжал египтянин, – наши отцы на Ниле достигли первых условий, необходимых для уничтожения хаоса, а именно повиновения и уважения толпы к немногим избранным. Из своих глубоких созерцаний и наблюдений над звездами они извлекли мудрость, которая уже не есть обман: они составили законы, измыслили искусства и все блага, скрашивающие жизнь. Они требовали веры и взамен ее давали цивилизацию. Да разве самый их обман не был добродетелью? Поверь мне, кто бы ни взглянул с тех далеких небес на наш мир, с улыбкой одобрил бы мудрость, достигшую подобных результатов. Но ты желаешь, чтобы я применил эти общие истины к тебе самому, – изволь! Спешу исполнить твое желание. Для храма богини нашей древней веры нужны служители и не такие служители, как эти бездушные, тупоумные создания, которых можно уподобить разве только колышкам и крючьям для вешания платья и поясов. Вспомни два изречения Секста пифагорейца, изречения, почерпнутые из египетской мудрости. Первое: «Не говори только о боге», а второе: «Человек, достойный бога, – есть бог среди людей». Подобно тому, как при помощи гения жрецы Египта сумели распространить веру, так сильно упавшую за последние века, так и теперь нужен гений для восстановления прежнего могущества. Я увидел в тебе, Апекидес, ученика, достойного моих уроков, – служителя, достойного высших целей. Твоя энергия, твои дарования, чистота твоей веры, твой искренний энтузиазм – все это делало тебя способным к призванию, требующему именно таких высоких и пылких качеств: поэтому я способствовал твоим святым желаниям и побуждал тебя совершить решительный шаг. Но ты осуждаешь меня за то, что не открыл тебе малодушия и фокусничества твоих товарищей. Если бы я это сделал, Апекидес, я не мог бы достигнуть цели: твоя благородная натура возмутилась бы сразу, и Исида лишилась бы жреца.
Апекидес громко застонал. Египтянин продолжал, не обращая внимания на перерыв.
– Вот почему я без всякой подготовки поместил тебя в храм. Я предоставил тебе самому раскрыть возмутительные комедии, которые и морочат, и ослепляют людское стадо. Я желал, чтобы ты сам увидел, как действует механизм фонтана, струями своими освежающего мир. Это искус, обязательный для всех наших жрецов. Те, кто привыкает к морочению толпы, тот и остается при этом занятии. Но для таких натур, как твоя, требующих более возвышенных целей, – религия раскрывает божественные тайны. Меня радует, что я не ошибся в твоем характере. Ты произнес обет, тебе нельзя отступить. Иди вперед, я буду твоим руководителем.
– Чему же ты еще научишь меня, странный, опасный человек? Новому плутовству, новым…
– Нет, я бросил тебя в бездну неверия, а теперь я возведу тебя на вершину веры. Ты видишь фальшь, теперь узнаешь истины, которые она покрывает. Не может быть тени, Апекидес, если нет сущности. Приходи ко мне сегодня ночью. Твою руку!
Взволнованный, возбужденный, очарованный речами египтянина, Апекидес протянул ему руку. Учитель и ученик расстались.
Действительно, для Апекидеса уже не могло быть отступления. Он произнес обет безбрачия. Он посвятил себя жизни, дававшей ему пока только суровость фанатизма, без утешительной веры. Весьма понятно, что он чувствовал горячее желание примириться с неизбежной карьерой. Глубокий, могучий ум египтянина опять приобрел влияние над его юношеским воображением, возбудил в нем какие-то смутные догадки, поддерживая в нем постоянные колебания между надеждой и страхом.
Тем временем Арбак тихими, величавыми шагами продолжал свой путь к дому Ионы. Входя в таблиум, он услыхал из портика перистиля голос, который, несмотря на его мелодичность, прозвучал неприятно в его ушах, – то был голос молодого, красивого Главка, и впервые невольный трепет ревности закрался в сердце египтянина. В перистиле он застал Главка сидящим возле Ионы. Фонтан среди благоухающего сада вскидывал на воздух серебристые брызги, поддерживая очаровательную прохладу в знойный полдень. В некотором отдалении сидели прислужницы, почти никогда не оставлявшие Иону. При всей своей свободе она соблюдала величайшую скромность и сдержанность. У ног Главка лежала лира, на которой он играл для Ионы лесбийские мелодии. Картина, представшая глазам Арбака, носила отпечаток той особенной, утонченной поэзии, какую мы до сих пор вполне справедливо считаем отличительной принадлежностью древних, – мраморные колонны, вазы с цветами, белые мраморные статуи ограничивали перспективу, а на первом плане виднелись две живые фигуры, которые могли бы вдохновить ваятеля, или привести его в отчаяние!
Арбак, остановившись на минуту, смотрел на эту прекрасную пару, и чело его утратило свое обычное, невозмутимое спокойствие. Сделав над собой усилие, он оправился, подошел к ним, но такой тихой, беззвучной поступью, что даже прислужницы не слыхали его, а тем более Иона и ее возлюбленный.
– А между тем, – проговорил Главк, – только пока мы еще не полюбили сами, мы воображаем, что поэты верно описывают страсть. Но чуть только взойдет солнце, сразу меркнут звезды, светившие в его отсутствие. Поэты существуют только до тех пор, пока в сердце ночь, но они для нас – ничто, когда мы внезапно почувствуем над собой власть бога любви.
– Прекрасное, чрезвычайно яркое сравнение, благородный Главк.
Оба вздрогнули, увидев за креслом Ионы холодное, саркастическое лицо египтянина.
– Неожиданный гость, – проговорил Главк, вставая с принужденной улыбкой.
– Как и следует быть всякому, кто уверен в радушном приеме, – отвечал Арбак, садясь и приглашая Главка сделать то же.
– Я рада, – заговорила Иона, – видеть вас обоих вместе. Вы так подходите друг к другу и созданы быть друзьями.
– Верните мне сперва лет пятнадцать жизни, – возразил Арбак, – а потом уже ставьте меня на одну доску с Главком. Я был бы рад приобрести его дружбу, но что могу я дать ему взамен? Способен ли я делать ему такие же признания, как он мне? Разве я могу говорить с ним о пиратах, гирляндах, парфянских конях и играть в кости? Такие удовольствия свойственны его возрасту, его натуре, его образу жизни, но они не для меня.
При этих словах хитрый египтянин потупил глаза и вздохнул, но украдкой взглянул на Иону, чтобы подметить, какое впечатление произведут на нее эти коварные намеки на жизнь и цели ее гостя. Но выражение ее лица, по-видимому, не понравилось египтянину. Главк слегка вспыхнул, весело поторопился отвечать. Может быть, и ему хотелось смутить и уколоть египтянина.
– Ты прав, мудрый Арбак, мы можем уважать друг друга, но едва ли между нами может быть дружба. На моих пирах недостает той таинственной соли, которая, если верить слухам, придает такое обаяние твоим празднествам. Клянусь Геркулесом! Когда я достигну твоих лет и, подобно тебе, пристращусь к удовольствиям зрелого возраста, я, без сомнения, также буду относиться саркастически к безумствам юности.
Египтянин поднял глаза на Главка и устремил на него пронизывающий взор.
– Я не понимаю тебя, – отвечал он холодно, – но теперь, кажется, принято нарочно затемнять остроумие.
Произнося эти слова, он отвернулся от Главка с едва заметной презрительной усмешкой и, помолчав немного, обратился к Ионе:
– Мне не посчастливилось, прекрасная Иона, застать тебя дома в те последние два-три раза, что я посетил тебя.
– Тихое, спокойное море часто манит меня из дому, – отвечала Иона с легким смущением.
Смущение это не ускользнуло от внимания Арбака, но, притворившись, что ничего не замечает, он отвечал с улыбкой:
– Ты знаешь, древний поэт сказал, что «женщинам следует сидеть дома и там вести беседу»[7].
– Этот поэт был циник и ненавидел женщин, – заметил Главк.
– Он говорил, сообразуясь с нравами своей страны, а этой страной была ваша хваленая Греция.
– Иные времена – иные нравы. Если бы наши предки знали Иону, они создали бы другие законы.
– Уж не в Риме ли научился ты преподносить такие милые любезности? – спросил Арбак с плохо скрываемым волнением.
– Конечно, никто бы не поехал в Египет, чтобы учиться любезностям, – возразил Главк, небрежно играя цепочкой.
– Полно, полно, – вмешалась Иона, спеша прервать разговор, который, к ее великому огорчению, далеко не мог способствовать скреплению дружбы между Главком и ее другом. – Арбак не должен быть так строг к своей бедной воспитаннице. Оставшись сиротой, без материнских попечений, я, может быть, и заслуживаю порицания за мой независимый, свободный, чисто мужской образ жизни. Но ведь такой же свободой пользуются римские женщины, да и греческим следовало бы брать с них пример. Увы! Неужели только между мужчинами свобода и добродетель могут уживаться между собой? Почему рабство, пагубное для вас, мужчин, считается единственным средством, чтобы охранить нашу чистоту? Ах, поверьте мне, это было величайшей ошибкой со стороны людей, ошибкой, жестоко влиявшей на их судьбы, что они вообразили, будто женская натура настолько отличается от их натуры (я уже не говорю, что она ниже мужской), что создали законы, неблагоприятные для умственного развития женщины. Поступая так, разве они не действовали в ущерб своим детям, которых женщины обязаны воспитывать, в ущерб мужьям, которым жены должны служить подругами, иногда даже советниками?
Иона вдруг остановилась, и лицо ее покрылось очаровательным румянцем. Она испугалась, что слишком далеко зашла в своем энтузиазме. Однако она менее боялась сурового Арбака, нежели учтивого, светского Главка, потому что любила последнего. А у греков не было в обычае дозволять женщинам (по крайней мере тем, которых они уважали) ту свободу, какой пользовались женщины в Италии. Поэтому она пришла в искренний восторг, когда Главк отвечал серьезным тоном:
– Желаю тебе всегда держаться этих мыслей, Иона, и пусть твое чистое сердце служит тебе руководителем. Счастлива была бы Греция, если б дала всем своим честным, целомудренным женщинам те интеллектуальные качества, которыми так славятся ее менее уважаемые красавицы. Никакое государство не может пасть от свободы знания, пока ваш пол будет поощрять свободу и мудрость.
Арбак молчал. Он не намерен был ни одобрить чувство Главка, ни порицать взгляды Ионы. После непродолжительного, натянутого разговора Главк простился с Ионой.
Когда он ушел, Арбак, придвинув свое кресло поближе к молодой неаполитанке, заговорил мягким, вкрадчивым голосом, под которым он так искусно умел скрывать хитрость и черствость своего характера.
– Не думай, моя прелестная питомица (если смею так называть тебя), чтобы я хотел стеснять ту свободу, которая так идет к тебе: если она и не превосходит свободу римских женщин, как ты справедливо заметила, однако не забудь, что женщина незамужняя должна пользоваться ею с величайшей осмотрительностью. Продолжай окружать себя толпой людей веселых, блестящих, ученых даже, продолжай пленять, но подумай, что злым языкам ничего не стоит запятнать репутацию девушки. Возбуждая восторг, не давай пищи злословию и зависти, умоляю тебя!
– Что хочешь ты сказать, Арбак? – воскликнула Иона встревоженным, дрожащим голосом. – Я знаю, ты мой друг и желаешь соблюсти мою честь и счастье. Объяснись, что ты хотел сказать?
– Твой друг, да – и какой искренний друг! Могу я высказаться откровенно, не обидеть тебя?
– Умоляю тебя, выскажись!
– Этот молодой кутила, этот Главк… Как ты познакомилась с ним? Часто ли ты с ним виделась?
При этих словах Арбак устремил на Иону пристальный взгляд, как бы желая проникнуть ей в душу.
Отшатнувшись перед этим взглядом со странным испугом, которого она не могла объяснить себе, неаполитанка отвечала со смущением и нерешительностью.
– Его ввел ко мне в дом один соотечественник моего отца, а следовательно, и мой. Я знакома с Главком не более недели. Но к чему эти вопросы?
– Прости меня, – отвечал Арбак, – но я думал, что знаешь его дольше. Какой же он низкий клеветник!
– Что это значит? Какие выражения!
– Оставим это. Я не желаю возбуждать твоего негодования. Этот человек не заслуживает такой чести.
– Умоляю тебя, продолжай. Что мог сказать Главк, или, вернее, чем, ты предполагаешь, он оскорбил меня?
Подавляя в себе досаду, вызванную последней фразой Ионы, Арбак продолжал:
– Ты знаешь, каков его образ жизни, каковы его товарищи и его привычки: кутеж и кости – вот единственные его занятия! А среди порочного общества может ли он помышлять о добродетели?
– Ты говоришь загадками. Именем богов, заклинаю тебя, скажи мне сразу даже самое худшее.
– Так хорошо же, пусть будет по-твоему! Узнай, Иона, что не далее, как вчера, Главк открыто хвастался в общественных банях твоей любовью к нему. Он говорил, что он забавляется ею. Однако, надо отдать ему справедливость, он расхваливал твою красоту. Кто мог бы отрицать ее? Но он презрительно засмеялся, когда кто-то из друзей, Клавдий или Лепид, спросил, любит ли он тебя настолько, чтобы жениться, и скоро ли он украсит колонны своего дома гирляндами?
– Быть не может! Кто передал тебе такую низкую клевету?
– Неужели ты потребуешь, чтобы я рассказывал тебе про комментарии, с которыми дерзкие щеголи распространяли эту историю по всему городу? Знай, что я сам сначала не поверил ничему, и только потом, к великому огорчению, должен был, на основании слов свидетелей, убедиться в истине того, что передаю тебе.
Иона отшатнулась, и лицо ее стало белее колонны, к которой прислонилась ее голова.
– Признаюсь, меня рассердило, раздосадовало, что твое имя перелетает из уст в уста, как имя какой-нибудь танцовщицы. И вот сегодня я нарочно поспешил прийти и предостеречь тебя. Я встретился с Главком и потерял всякое самообладание. Я не мог скрыть своих чувств, я был даже невежлив в твоем присутствии. Можешь ты простить своего друга, Иона?
Иона подала ему руку, но не отвечала на слова.
– Перестань об этом думать, – сказал он, – но пусть этот случай послужит тебе предостережением, напоминанием, насколько ты должна быть осторожна. Это не может затронуть тебя, Иона, вряд ли такое легкомысленное существо заслуживает серьезного внимания твоего. Подобные вещи оскорбляют только в том случае, если исходят от любимого существа, но он далеко не такой человек, какого могла бы полюбить Иона с ее возвышенной душой!
Небезынтересно заметить, что в те отдаленные времена и при общественном строе, существенно отличающемся от нашего, те же самые вздорные причины расстраивали и прерывали «течение страсти» – та же изобретательная ревность, те же хитрые клеветы, те же лукавые сплетни, которых и теперь достаточно, чтобы порвать узы самой искренней любви и совершенно изменить ход событий, по-видимому самых благоприятных. Когда судно плывет по волнам, самая мелкая рыба, облепляя киль, может остановить его ход: так бывает и с величайшими страстями человеческими, и если мы хотим дать верное описание жизни, то нам необходимо, даже в периоды наиболее романтические, описывая идеальную старость, изобразить также весь этот пошлый, вздорный механизм, при помощи которого злоба неустанно орудует у наших очагов. В этих-то мелких интригах жизни заключается общая черта между нашим веком и давно минувшим прошлым.
С величайшей хитростью египтянин затронул слабую сторону характера Ионы. Он ловко направил отравленную стрелу против ее гордости. Он думал, что положил конец тому, что считал не более, как зарождающимся увлечением со стороны Ионы, судя по недавнему знакомству ее с Главком. Поспешив переменить разговор, он повел речь о брате Ионы. Но беседа не клеилась. Он скоро ушел, дав себе слово не слишком доверяться долгому отсутствию, а посещать девушку и следить за ней ежедневно.
Едва успела скрыться тень Арбака, как всякая женская гордость, всякое притворство, свойственное ее полу, мгновенно покинули ее жертву, и надменная Иона залилась горькими слезами.
VII. Веселая жизнь помпейского кутилы. – Копия с римских бань в миниатюре
Когда Главк расстался с Ионой, ему казалось, что у него выросли крылья. В этом свидании он в первый раз ясно убедился, что любовь его принимается благосклонно и что он может надеяться на взаимность. Эта надежда наполняла его восторгом, небо и земля казались ему слишком тесными, чтобы вместить его. Не сознавая того, что оставил за собой врага, и забыв не только об его инсинуациях, но и о самом его существовании, Главк прошел по веселым, оживленным улицам, беспечно напевая про себя ту нежную мелодию, которую слушала Иона с таким наслаждением. Он очутился на улице Фортуны, с ее приподнятым тротуаром, с раскрашенными снаружи домами, сквозь открытые двери которых виднелись яркие внутренние фрески. Оба конца улицы украшались триумфальными арками. Главк подошел к храму Фортуны. Выдающийся портик этого прекрасного капища (предполагают, что оно было построено одним из членов семейства Цицерона, может быть, даже самим оратором) придавал почтенную, величественную черту картине, которая иначе имела бы более блестящий, нежели величавый характер. Этот храм был одним из самых изящных образчиков римского зодчества. Он был возведен на довольно возвышенном подиуме, и между двумя лестницами, ведущими к площадке, стоял жертвенник богини. С этой площадки другая лестница вела к портику, со стройными колоннами, обвитыми фестонами из роскошных цветов. На обоих концах храма возвышались статуи работы греческих ваятелей, а неподалеку от храма была воздвигнута триумфальная арка с конной статуей Калигулы и бронзовыми колоннами по бокам. На площади перед храмом собралась оживленная толпа – одни сидели на скамьях и толковали о политике империи, другие – беседовали о предстоящем зрелище в амфитеатре. Группа юношей расхваливала новую красавицу. В другой говорили о достоинствах последней пьесы, третья группа, более пожилых людей разглагольствовала о выгодах торговли с Александрией. В ней было много купцов в восточных костюмах. Их широкие, своеобразные одежды, пестрые туфли, усыпанные каменьями, их спокойные, важные манеры представляли резкий контраст с фигурами в туниках и оживленными жестами итальянцев. Уже тогда, как и теперь, этот живой, неугомонный народ имел особый язык знаков и жестов, язык чрезвычайно выразительный и оживленный: потомки их сохранили его до сих пор, и один ученый – Джорио – написал целое интересное исследование об этой иероглифической жестикуляции.
Пробравшись сквозь толпу, Главк очутился в группе веселых, беспутных друзей.
– А! – приветствовал его Саллюстий. – Сто лет тебя не видно!
– А как ты провел эти сто лет? Какие новые кушания изобрел?
– Я занимался наукой, – отвечал Саллюстий, – делал опыты откармливания миног и, признаюсь, отчаялся довести их до того совершенства, какого достигли в этом искусстве наши предки римляне.
– Несчастный! Но почему же?
– А потому, – возразил Саллюстий со вздохом, – что теперь запрещено законом кормить их мясом рабов! Все же мне часто приходит охота отделаться от моего толстого буфетчика и потихоньку столкнуть его в бассейн. Он придал бы рыбам тонкий вкус! Но нынче рабы уже перестали быть рабами и не входят в интересы своих господ, иначе Давий сам погубил бы себя, чтобы доставить мне удовольствие!
– Ну, что нового из Рима? – томно спросил Лепид, подходя к группе.
– Император задал роскошный пир сенаторам, – отвечал Саллюстий.
– Добрый он государь, – заметил Лепид, – говорят, он никогда не отпустит человека, не исполнив его просьбы.
– Может быть, он позволил бы мне убить раба для моих миног! – с живостью воскликнул Саллюстий.
– Весьма вероятно, – сказал Главк, – потому что кто оказывает милость одному римлянину, тот всегда должен это сделать в ущерб другому. Будьте уверены, что каждая улыбка, вызванная Титом, стоила слез целой сотни людей.
– Да здравствует Тит! – крикнул Панса, заслышавший имя императора, шествуя в толпе с покровительственным видом. – Он обещал моему брату квесторское место, потому что тот имел несчастие разориться…
– И теперь желает нажиться за счет народа, – добавил Главк.
– Именно так, – согласился Панса.
– Значит, и народ на что-нибудь да годится, – заметил Главк.
– Ну, конечно, – отвечал Панса. – Однако, пора мне пойти взглянуть на эрарий – он немного не в порядке.
И эдил суетливо убежал прочь, сопровождаемый целой вереницей клиентов, отличавшихся от прочей толпы своими тогами (тога, когда-то служившая отличительной принадлежностью свободного гражданина, теперь, наоборот, был признаком раболепной подчиненности патрону).
– Бедный Панса! – проговорил Лепид. – У него никогда нет времени на удовольствия. Благодарение небу, я не эдил!
– А, Главк, как поживаешь? Весело по обыкновению! – сказал Клавдий, подходя к группе приятелей.
– Уж не пришел ли ты приносить жертву Фортуне? – спросил Саллюстий.
– Я приношу ей жертвы каждый вечер, – возразил игрок.
– В этом я не сомневаюсь. Ни один человек не похитил столько жертв, как ты!
– Ого, какая язвительная речь! – смеясь воскликнул Главк.
– Ты вечно огрызаешься, как собака, Саллюстий! – сказал Клавдий с досадой.
– Тсс! – вмешался Главк и, подозвав цветочницу, взял у нее розу.
– Роза – символ молчания, – отвечал Саллюстий, – но я люблю видеть ее только за ужином. А кстати, Диомед дает большой пир на будущей неделе. Ты приглашен, Главк?
– Да, я получил приглашение сегодня утром.
– И я также, – сказал Саллюстий, вынимая из-за пояса квадратный кусочек папируса, – как видно, он приглашает нас часом раньше обыкновенного – верно, готовится что-то особенно роскошное[8].
– О, да он ведь богат, как Крез, и меню его пира длиннее эпической поэмы.
– Пора нам в бани, – сказал Главк, – теперь там все в сборе. И Фульвий, которым вы так восхищаетесь, прочтет нам свою новую оду.
Молодые люди согласились с готовностью, и все направились к баням.
Хотя общественные термы и бани были учреждены скорее для бедных граждан, чем для богатых (у последних были собственные ванны дома), однако это было любимое место сборищ для толпы всех классов: туда стекались люди праздные, беспечные, чтобы вести беседу и коротать время. Бани в Помпее, конечно, отличались по плану и постройке от обширных и сложных римских терм. Действительно, в каждом городе империи замечались свои незначительные особенности в устройстве и архитектуре общественных бань. Это удивляет ученых – как будто мода и архитектура не могли быть прихотливыми раньше XIX столетия!
Наши молодые люди вошли через главный портик, обращенный на улицу Фортуны. У входа сидел сторож бань, с двумя ящиками: в один он опускал собираемые деньги, а из другого раздавал входные билеты. Вокруг стен портика стояли скамьи, и на них расположились люди различных классов общества, между тем как другие, следуя предписанию врачей, расхаживали быстрыми шагами взад и вперед под портиком, останавливаясь иногда перед множеством афиш о зрелищах, о продажах, играх, выставках, – все эти объявления были написаны на стенах. Главным предметом разговоров было предстоящее зрелище в амфитеатре. К каждому новому лицу приставали с вопросами – не нашлось ли, наконец, в Помпее какого-нибудь чудовищного преступника, какого-нибудь удачного случая убийства или святотатства, которое дало бы эдилам возможность бросить человека в пасть льву? Все прочие зрелища казались бледными и бесцветными сравнительно с возможностью такой счастливой оказии.
– Что касается меня, – сказал веселый, разбитной помпеец, оказавшийся ювелиром, – я полагаю, что если император так добр, как уверяют, то он мог бы прислать нам еврея.
– Почему бы не взять кого-нибудь из новой секты назареян, – вмешался один философ. – Я не жесток, но ведь безбожник, отрицающий самого Юпитера, не заслуживает жалости.
– Мне все равно, скольким богам человеку угодно поклоняться, – возразил ювелир, – но отвергать всех богов – это нечто чудовищное!
– Однако, – сказал Главк, – мне кажется, эти люди не вполне атеисты. Говорят, они верят в Бога и в иной мир…
– Ты ошибаешься, любезный Главк, – возразил философ. – Я говорил с ними, и они рассмеялись мне в лицо, когда я упомянул о Плутоне и аде.
– О, боги! – воскликнул ювелир в ужасе. – Неужели водятся такие презренные негодяи в Помпее?
– Насколько мне известно, их очень мало, и они собираются втайне, так что невозможно открыть, кто они такие.
Главк отошел, и какой-то скульптор, большой энтузиаст, проследил за ним восторженным взглядом.
– Ах, если б можно было его выпустить на арену, вот была бы прекрасная модель! Какое сложение! Какое лицо! Ему следовало бы быть гладиатором! Образец достойный нашего искусства! Отчего бы не отдать его льву?
В это время Фульвий, римский поэт, которого современники провозгласили бессмертным, но имя которого, если б не эта история, осталось бы безвестным для нашего века, с живостью подошел к Главку: