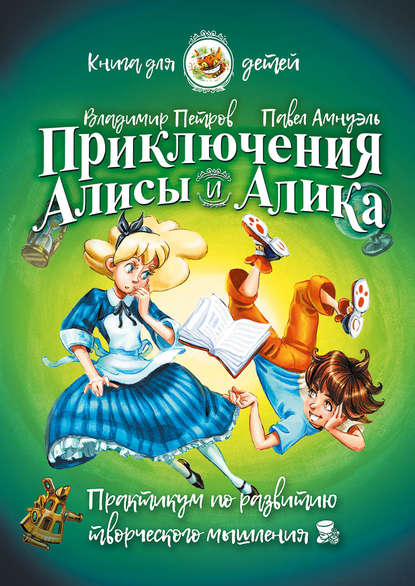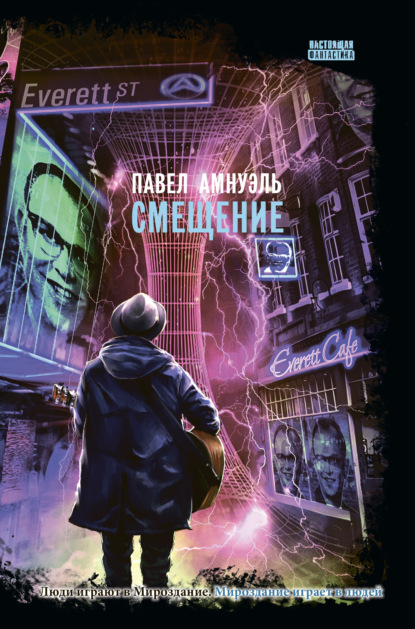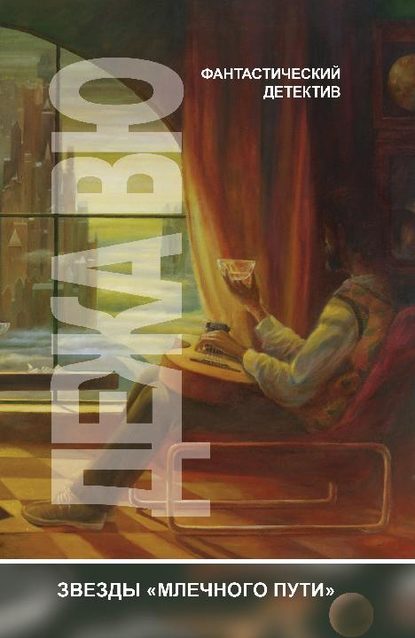
Полная версия
Дежа вю (сборник)

Дежа вю (сборник)
Павел Амнуэль
Дежа вю
Площадь была маленькая, а церковь выглядела заброшенной. Сложенное из красных кирпичей, не везде плотно подогнанных друг к другу, здание, если смотреть на него издали, напоминало севший на мель старый корабль, мачты которого переломились у основания.
Антон обошел церковь и присел на скамью под деревом, которое могло быть липой, а могло – осиной. Антону хотелось, чтобы дерево оказалось плакучей ивой, тогда он дотянулся бы до ее ветвей и сказал про себя: «Все хорошо». Гуляя по Амстердаму третий день, Антон не нашел ни одной ивы, хотя выбрал этот город по той, для него самого не очень ясной, причине, что на берегах знаменитых каналов растут большие плакучие ивы, которых не найти ни в одной другой европейской столице. Никто ему об этом не говорил, и ни в одном из путеводителей ни слова не было об амстердамских ивах, но Антон помнил, что как-то сидел под плакучей ивой именно в Амстердаме. Больше ничего он вспомнить не мог, но картинка, возникшая в голове, когда он в конце семестра принялся изучать туристические проспекты, была такой яркой, что у него и тени сомнения не возникло – придя в турагентство, он точно знал, куда хочет ехать.
В Амстердаме ив не оказалось. У дерева, под которым стояла скамья, была редкая крона, будто парик с выпадавшими волосами, и солнечные лучи, почти не застревая в ветвях, падали на плечи и голову. Вход в церквушку был закрыт, дверь выглядела такой же старой, как вся кладка, местами покрывшаяся плесенью. Впечатление было таким, будто лет двести назад последний прихожанин, а может, сам приходский священник, уходя, закрыл дверь навсегда, и за многие годы она вросла в кирпичи, превратив бывший храм в запечатанный склеп.
Посидев несколько минут и дав ногам отдохнуть от долгого хождения по улицам, Антон поднялся, чтобы продолжить прогулку, и, похоже, это его движение что-то переключило в сложном устройстве мироздания – над площадью, над небом вознеслась печальная, с взволнованными придыханиями, мелодия, которую небрежно, то ускоряя темп, то вдруг останавливаясь, будто забывая ноты, наигрывал невидимый органист.
Неожиданно раскрылась дверь – сама собой, будто от ветра, которого сегодня не было в помине, – и из глубины церкви звук органа пролился на брусчатку площади, как густой сироп из опрокинувшейся бутылки. Играли Баха – седьмую инвенцию. Антон не был ни знатоком, ни даже активным любителем классики, органа в особенности, но эту вещь знал наизусть, она звучала в его любимом фильме, который с некоторых пор ему и пересматривать было не нужно – он знал каждый кадр «Соляриса», каждую режиссерскую задумку, каждый жест и взгляд актеров.
Органист играл плохо, а может, всего лишь репетировал, но знакомая мелодия все равно притягивала, будто порыв ветра, распахнувший дверь, толкнул Антона в спину по направлению к церкви, куда он, вообще-то, и без приглашения собирался войти, раз уж представилась возможность.
Антон медленно пересек площадь и вошел в гулкую темноту храма, внутри оказавшегося огромным. Купол витал где-то над застывшим в удивлении небом, узкие окна с калейдоскопическим нагромождением витражей почти не пропускали свет, на алтаре под большим позолоченным крестом с распятым Иисусом горел ряд высоких тонких свечей, и кто-то там, кажется, молился – Антону показалось, что он видит согбенную спину в белом облачении священника. А может, это висело на решетке чье-то белое, похожее на полотенце, одеяние – издали не разобрать.
Орган перестал звучать на середине музыкальной фразы, и тишина проявила звуки, существовавшие здесь и раньше, – медленные шаги на хорах, кряхтение, тяжелое дыхание. Органист, видимо, спускался, Антон не хотел ни с кем встречаться; может, сюда вообще нельзя было входить, и он нарушил правила? Повернувшись, чтобы уйти, Антон бросил взгляд на стоявшую в углублении статую девы Марии, почти невидимую, но все равно четко очерченную полутенями от колонн. Дева Мария держала на руках младенца и смотрела на Антона, будто хотела сказать: «Помнишь?»
Он вспомнил. Он здесь был. Однажды. Не так давно. Просто выпало из памяти. С ним это часто случалось – в последнее время, впрочем, чуть реже обычного. Дежа вю. Вдруг вспоминаешь, что с тобой это уже происходило. Антон знал, что, обернувшись, увидит в центре зала на полу сложную мозаику – круг с множеством лучей, похожих на пики, перевязанные тонкими лентами. И в центре круга…
Антон медленно обернулся, ему показалось, что дева Мария посмотрела на него укоризненно, а младенец вздрогнул и приник к материнской груди.
В центре зала было чуть светлее, и мозаичный круг со стрелами-пиками виден был совершенно отчетливо, а еще…
Он вспомнил. В тот день здесь было гораздо светлее, горели две яркие лампы на треножниках, в центре круга стоял мольберт, и художник – импозантный мужчина в длинном зеленом пиджаке, больше похожем на плащ, – широкими мазками рисовал, откидывая голову, наклоняясь то влево, то вправо, чтобы оценить сделанное. Антон видел лицо художника и не мог видеть картину, не знал, близка ли она к завершению, и что пытался изобразить на холсте живописец.
И еще он вспомнил, как из темноты возникла тень, сформировавшаяся затем в человека, мужчину, ступавшего медленно и тихо. Антону показалось знакомым лицо, но разве можно узнать кого-нибудь при таком неверном освещении? Художник застыл на мгновение с поднятой рукой, а потом уронил кисть, покачнулся, обхватил обеими руками невидимую колонну и завалился навзничь. Мужчина почти скрылся во тьме, но что-то привлекло его внимание, и внимание Антона тоже обратилось к первой колонне у входа.
Там стояла девушка, выглядевшая тенью на тени. У девушки были длинные светлые волосы, и это все, что смог увидеть Антон. Разглядеть лицо с того места, где он стоял, было невозможно, но почему-то Антон был уверен, что девушка очень красива. Это было страстное убеждение, мгновенная вспышка безотчетного желания. И еще: девушка боялась. Она подняла руки, прикрылась ими, будто крыльями, и в следующую секунду исчезла – скорее всего, отступила за колонну, во мрак.
Антон хотел пойти за девушкой, но мертвое тело художника притягивало, он подошел ближе, и что-то показалось ему знакомым, что-то уже виденное где-то…
Где?
Антон не помнил. С памятью у него всегда были проблемы. Вдруг вспоминался эпизод, о котором он не мог сказать точно, происходило ли это в его жизни на самом деле. Возникало странное знание о чем-то, чего он знать не мог. Как сейчас.
Он никогда прежде не был в этой церкви. Он никогда прежде не был в этом городе. Он никогда прежде не был в Голландии, разве что пролетал несколько раз по пути в Лондон и обратно, вглядываясь в проплывавшие внизу прямоугольники домов, причудливые дуги амстердамских каналов, зеленые кляксы городских парков.
На негнущихся ногах Антон сделал несколько неуверенных шагов и оказался в центре мозаичного круга со стрелами-пиками. Здесь стоял мольберт, а вполоборота к проходу между скамьями художник рассматривал собственное творение. И сзади…
Антон обернулся в испуге – конечно, там никого не было, и у алтаря не было никого, и у первой колонны от входа. С хоров доносились все те же слабые шаркающие звуки – невидимый органист устраивался удобнее или, может быть, протирал тряпочкой клавиши…
Медленные звуки органа спустились с хоров и растворились в воздухе. Воздух стал музыкой, Антон протянул ладонь, и в нее легло ощущение спокойного доброжелательства, смыв ощущение страха, неуверенности, беды. Художник, убийца, девушка, мольберт… Это было, но этого не было, и быть не могло. Еще одна причуда его сумасшедшей памяти. Только и всего.
Антон направился к выходу, глядя прямо перед собой, но боковым зрением ожидая увидеть тень на тени и побежать… от чего?
От себя не убежишь, – произнес Антон банальную фразу, выйдя в ослепляющую после храмовой темноты цветную реальность амстердамского утра. Скамейку, на которой он сидел несколько минут назад, успели занять – юная мама склонилась над коляской и шептала нежности ребенку, девочке со светлыми курчавыми волосами.
Антон шел не оглядываясь, – он не хотел знать, открыта ли еще дверь в церковную темноту, кто там стоит на пороге и смотрит ему вслед. Никто не стоял, скорее всего, но он чувствовал упершийся в спину взгляд и не мог избавиться от этого ощущения, пока не миновал несколько кварталов и не вышел на шумную улицу Дамрак, где как раз подкатил к остановке двадцатый номер трамвая и тренькнул звонком, напомнив московскую десятку его детства, на которой он каждый день ездил по утрам в школу и обратно.
У поворота на Спуи он вышел. Направо – к гостинице, где он снял маленький номер с видом на Амстель. Вперед – к серому и невзрачному, на первый взгляд, дому, где еще вчера он увидел рядом с красной, будто выкрашенной бычьей кровью, дверью среди прочих табличек серебряный квадрат с именем человека, о котором ему рассказывали еще дома, в Израиле.
Он не выбирал направления – ноги решили за него. Не в первый раз.
* * *Приемная частного детектива больше была похожа на студию художника, во всяком случае – в представлении Антона. Огромное, в два человеческих роста, окно, в котором можно было бы увидеть весь центр города, если бы прекрасный вид не загораживал дом напротив. На покатом склоне черепичной крыши вольготно, будто на картине старинного голландского мастера, расположились два огромных кота, подозрительно глядевших друг на друга, но пока не предпринимавших попыток выяснить отношения. Поодаль грелась на солнце, вытянув лапы, изящная черная кошечка, местный вариант пантеры. Кошечка вяло помахивала хвостом, ожидая начала представления.
– Забавляет? – сказал Манн, возвратив Антона из мира кошачьих грез в будничную атмосферу, куда клиент собирался внести немного криминального разнообразия. – Садитесь. Эдит сказала, что ваше имя Антон Симак. Из России?
Разговор велся по-английски. Антон попытался построить в уме простенькую фразу на голландском, понял, что объясниться толком не сумеет, и ответил на английском, который знал с детства:
– Из Израиля. Когда я уезжал… я здесь в отпуске, турист… мне порекомендовали, если что, обратиться в агентство Манна.
– Неужели обо мне рассказывают в Израиле? – поразился Манн.
– Линда Штраус, слышали о такой? – вопросом на вопрос ответил Антон.
– О, – улыбнулся Манн. Хорошая у него была улыбка, открытая, добрая, Антон подумал, что все теперь будет в порядке: человек, умевший так улыбаться, по крайней мере, не способен отвергать без рассмотрения самые странные рассказы клиентов – собственно, так о Манне и сказала Линда, репортер «Маарива», приезжавшая полгода назад в Ариэль, чтобы взять интервью у кого-нибудь из сотрудников недавно открывшейся лаборатории космической физики. Они тогда проговорили весь день, это и не интервью было, а дружеская беседа, и об амстердамском частном сыщике Линда вспомнила, когда зашла речь о неразрешенных загадках дальнего космоса – о темной энергии, например, и о струях межгалактического вещества, протянувшихся на такие огромные расстояния, что никакой закон тяготения, даже модифицированный современными ниспровергателями Эйнштейна, не мог объяснить их движения. «Удивительно, – сказала тогда Линда, – человек будто притягивает к себе загадки, которые, как другим кажется, не имеют решения, разве что мистические, но Манн извлекает из них реальную суть, совсем, как вы из ваших темных сил и потоков»…
– Линда Штраус, – Манн повторил имя с видимым удовольствием. – Нас познакомила Кристина, иначе я бы не согласился на интервью, не любитель, знаете…
– Кристина…
– Моя жена, – пояснил Манн. – Садитесь в кресло, и на вас не будут падать прямые лучи солнца, я вижу, вы щуритесь. А я люблю сидеть, чтобы солнце светило в глаза.
– Тогда вам…
– Ничего не видно, да! Но зато я гораздо лучше слышу. Когда – и если – будет нужно, я вас рассмотрю очень внимательно, поверьте. А пока… Вам удобно? Будете пить кофе? Эспрессо? Черный? С сахаром?
– Черный, если можно, – пробормотал Антон. – С сахаром, да, одну ложечку. И без молока, а то в местных кофейнях…
– Только без молока! – твердо сказал Манн. – Молоко отбивает вкус. Рассказывайте.
– Послушайте, – неуверенно сказал Антон. Он всегда говорил неуверенно, когда задавал свой стандартный вопрос, пытаясь для начала понять, что можно произнести вслух, а что надо оставить в себе, хотя это и трудно, потому что память была, как включенный мотор, – если не дашь возможности разогнаться, то перегреется, и начнет болеть голова, придется доставать пакетик с таблетками… – Послушайте, мне кажется… Мы с вами не встречались раньше? Я не бывал здесь? В этой комнате?
– Нет, – с удивлением и интересом сказал Манн. – Уверен, что вижу вас впервые. Вам… – он помедлил, – кажется, что вы здесь уже бывали?
– Дежа вю, – пробормотал Антон. Обычно он не признавался сразу в своей особенности воспринимать мир как вторичную проекцию чего-то, что уже было, но стерлось из памяти.
– Дежа вю, – повторил он. – С этим, собственно, все и связано.
Манн молчал и слушал.
* * *Чтобы вам было понятно произошедшее… Вы можете решить, что у меня с головой не в порядке… Поэтому я расскажу сначала о своем детстве. Не подумайте, что это приступ словесного недержания. Наоборот, я никому… то есть, почти ни с кем об этом не говорю, зачем людей напрягать… Но сейчас… Вы правы, это лишние слова, а суть…
У меня странная память, знаете ли. Я попадаю в незнакомое место и вспоминаю, что уже был здесь. Это случается спонтанно, я не умею управлять процессом, хотя за многие годы пытался, конечно; иногда мне казалось, что получается, но всякий раз убеждался, что, если вызываю воспоминание намеренно, оно получается ложным, не таким, каким должно было бы быть… В общем, я давно не пытаюсь управлять…
Вы правы. Я нервничаю, да. Значит, сначала.
Мне было три года, когда я впервые с этим столкнулся. Мама привела меня в детский сад, я должен был остаться один… не один, конечно, среди детей, но без нее. Я вцепился обеими руками в мамину ногу, обтянутую джинсами, приготовился реветь и не отпускать штанину ни при каких обстоятельствах. Но получилось иначе – мы вошли в большую комнату, где было много незнакомых детей, столиков, игрушек, и две молодые женщины… я их сразу узнал, только имен не помнил, и в комнате этой я уже был много раз, и в игрушки эти играл, а мальчику, уныло сидевшему в углу, я как-то влепил затрещину, просто так, чтобы под ногами не путался.
Понимаете? Я отпустил мамину штанину. Я прошел к своему столику, кивнув по пути воспитательнице. Я не помнил, как ее звали, меня это не интересовало, я хотел достать из круглой зеленой коробки игру-змейку, которую вчера собирал сам. Правда, в моей памяти коробка была синей, но на эту мелочь я обратил внимание позже, а тогда просто засунул внутрь руку, вытащил странное сооружение, нисколько на змейку не похожее, и только тогда перепугался насмерть, потому что вдруг понял, что никогда я на самом деле здесь не был, не мог здесь ни с кем играть и никому не давал по шее и воспитательницу видел впервые в жизни. Глаза наполнились слезами, но мама уже ушла, удивленная и обрадованная моей реакцией на незнакомое. По дороге на работу она, подозреваю, размышляла о том, что очень плохо знала собственного сына.
В тот день я еще не понимал, что такое дежа вю, но странный момент узнавания позволил пережить стресс, и на другой день я шел в сад с ощущением, будто хожу туда целый год, я даже маму за руку не держал, бежал впереди, это я хорошо помню.
Я был ребенком, мне в голову не приходило отслеживать, классифицировать, сводить в систему. Единственное, что могу сейчас сказать, – странные приступы дежа вю происходили все чаще… или я стал их лучше помнить. Вам знакомо это ощущение, всем знакомо, каждый человек хотя бы раз испытал чувство беспричинного узнавания – места, человека, ситуации. Когда дежа вю случается раз или два, к этому относишься, как к курьезу, взбрыку памяти. Но если дежа вю наступает с регулярностью появления на вашей улице мусороуборочной машины… Не знаю, почему в голову пришло именно это сравнение. Наверно, потому что, когда я действительно впервые увидел машину, в которую сваливали мусор из огромных (так мне казалось) контейнеров, мне было очевидно, что именно эту машину, именно этого водителя я уже много раз видел, но не здесь, не на нашей короткой улице, соединявшей два широких городских проспекта. Я видел эту машину при совсем других обстоятельствах, и водитель этот, темнокожий и лысый, как глобус, помог мне… в чем? Этого я припомнить не мог, как ни старался, а подойти и спросить мне, конечно, в голову не приходило, я был ребенком, не помню сейчас, сколько мне было точно – шесть или семь, ходил я уже в школу или только готовился…
А когда, набравшись храбрости, я решил подойти и независимым тоном спросить у водителя: «Мы знакомы?»… тот же вопрос, который я потом задавал множеству людей при самых разных обстоятельствах, вам тоже, да… Так вот, когда я, наконец, решился, машина перестала приезжать. Мусор, конечно, убирали, но приезжала теперь другая машина, и водитель был другой – белобрысый парень с тяжелым взглядом.
Стационарное состояние моей психики оформилось лет в тринадцать. Просыпаясь утром, я смотрел в потолок своей давным-давно знакомой комнаты, и мне казалось, что я здесь уже бывал – странное ощущение: конечно, я здесь бывал, я здесь жил, я проводил в своей комнате много часов, я знал расположение всех трещин в штукатурке и всех чернильных пятен на дереве секретера, но все равно, просыпаясь, я вдруг (всякий раз вдруг) понимал, что я уже бывал в этой комнате, но, в том-то и дело, что не совсем в этой – я вспоминал, что на потолке должен быть желтый след от брызнувшего как-то шампанского, но его не было, и это меня смущало минуту-другую, будто я проснулся не в своей постели. А потом я вспоминал, конечно, что в моей комнате никогда не было на потолке следа от шампанского, но я точно помнил, что в моей комнате такой след был… ужасное ощущение раздвоенности сознания и, в то же время, общности, единственности мира, в котором все мои дежа вю не отдельны и не случайны, а составляют незыблемую систему.
Я знал уже, что так происходит не со всеми, точнее – ни с кем, кого я знал и с кем мог поделиться сокровенным. Вначале-то я рассказывал всем и каждому – маме с папой, прежде всего. Мама слушала не то чтобы без интереса, но с интересом, на который я не рассчитывал, – она испугалась, с ее сыном происходило что-то такое, чего не случалось с другими детьми. Как-то она повела меня к детскому психиатру. Тот, выслушав мои сбивчивые истории, сказал, что у меня гиперактивное сознание, и прописал таблетки, которые я наотрез отказался глотать – видимо, организм инстинктивно понимал, что это не нужно. Знаете, как я сопротивлялся! Я выбрасывал таблетки, я их прятал в рукаве, закладывал за щеку и выплевывал – в конце концов, заявил, что пить не буду, пусть меня из дома выгоняют, пусть запирают в темной комнате на весь день, пусть не позволяют читать книги – не буду, и все. Мама смирилась, а я перестал рассказывать о своих дежа вю, которые не только не становились реже, но, напротив, к четырнадцати годам стали такой же неотъемлемой частью моей жизни, как еда, сон и душ по утрам.
Когда нам начинали в школе объяснять новую теорему, я вспоминал, что уже слышал это объяснение, не совсем такое, не совсем теми словами, но слышал, хотя и не мог воспроизвести доказательство сам. Знаете, как это бывает – помнишь сам факт, помнишь обстановку, в которой было сказано нечто, помнишь даже слова, но вспоминаешь их именно в тот момент, когда эти слова произносят в реальности – в памяти они сразу отражаются, и кажется, что они уже были там раньше, а в реальности возникли только сейчас. Обратное отражение, если вы понимаете, что я имею в виду…
Конечно, это не ясновидение, как вы сначала подумали. Ничего общего. Я никогда не вспоминал ничего такого, что со мной еще не происходило. Никогда не было, скажем, случая, когда я шел бы по улице, вдруг понимал, что из-за угла вылетит автомобиль, я упаду… а через секунду или минуту из-за угла действительно вылетает машина, но я уже готов и бросаюсь в сторону вовремя, чтобы не попасть под колеса. Это было бы ясновидением, да, но такого со мной никогда не происходило. Было все наоборот: я видел вылетавший из-за угла автомобиль, делал шаг назад и вспоминал – улицу (именно эту), автомобиль (этот самый, хотя в памяти он мог быть другого цвета или даже другой марки).
Со временем я научился использовать свои дежа вю для принятия решений. Это произошло, когда я уже учился в колледже в Ариэле. Я ездил сначала каждый день автобусом из Тель-Авива, а потом снял комнату… Эта история тоже интересна, потому что дежа вю как-то спасло меня от смерти, расскажу потом, если захотите. Тогда я понял, что собственную память просто обязан, раз уж так получилось, использовать для того, чтобы принимать правильные решения. Скажем, подавать ли документы в фирму «Эксель». Мне нужна была подработка, денег не хватало, мама (отец к тому времени умер) не могла помогать мне так, чтобы я удовлетворял свои молодые потребности… Прихожу в офис для собеседования, вспоминаю, естественно, что я здесь уже был, только столы стояли не так, и девушка-секретарша была не блондинкой, а жгучей брюнеткой, и руку за моим удостоверением протянула нехотя… И я начинал тянуть за эту нить, пытаться понять, что было дальше – в памяти, не в реальности. В реальности я протягивал документ (в памяти тоже), меня приглашали пройти в кабинет (я помнил, что вошел не в кабинет, хозяин фирмы – да-да, в точности такой же, как в реальности, – вышел в приемную, и мы беседовали, сидя в низких креслах у журнального столика), мне задавали вопросы, но слушал я не хозяина, а всматривался и вслушивался в то, что происходило в памяти, ловил момент… вот! Мне не нравились условия, я понимал, что работать придется больше, чем позволял студенческий график… дальше вспомнить не мог, потому что внимание переключалось на реальность, нужно было реагировать на голос, и я говорил: «Извините, меня это не устраивает», хотя ни слова в тот момент не помнил из того, что только что объяснял хозяин фирмы. Память вытесняла на какое-то время…
Вам надоело слушать, извините, сейчас перейду к делу, я только хотел, чтобы вы отнеслись к моим дежа вю серьезно. Это не игра фантазии, не ясновидение… Дежа вю, ничего больше.
* * *– Значит, вы вспомнили… – протянул Манн, намеренно не закончив фразу.
– Как убили художника, – сказал Антон, прислушиваясь к собственному голосу и каждое следующее слово произнося все более уверенно. – А потом убийца заметил девушку и направился к ней, но она успела спрятаться… или выбежать из церкви.
– Этот человек… убийца… видел вас?
– Не могу сказать точно. Полумрак…
– Вы стояли за колонной?
– Нет. Рядом.
– На расстоянии…
– Сейчас я не могу вспомнить, какое расстояние нас разделяло. Метра три? Я… или звук шагов… отвлек его от девушки, и…
– Она скрылась, – закончил Манн.
– Не знаю. – Антон пытался вызвать воспоминания, вспомнить каждую деталь, но по заказу не получалось. По заказу не получалось никогда – какие-то детали пропадали, какие-то память присочиняла сама, так ему, во всяком случае, казалось, и он переставал понимать, чему должен верить, чему нет, а что подвергать сомнению и анализу.
– Когда я нервничаю, – попытался объяснить он, – память расплывается.
– Ничего этого не происходило на самом деле, – сказал Манн с полувопросительной интонацией. – Я хочу сказать: если бы вы сейчас давали показания в полиции, то не могли бы ручаться, что все, вами рассказанное, происходило на самом деле?
– Нет. То есть… Происходило, конечно. Иначе я бы этого не помнил.
– Но как же…
– Не знаю. То есть… У меня есть объяснение. Для себя. Иначе трудно было бы жить. Себе я все объяснил. Собственно… Профессию я выбрал именно такую, какая позволяла… Но это другой вопрос. Не думаю, что должен забивать вам голову гипотезами, которые, скорее всего, не имеют никакого отношения к реальности. Ad hoc[1]. Знаете, что это означает?
– Да, – коротко сказал Манн.
– Типичная гипотеза ad hoc. Лично для меня. Чтобы я смог себе что-то объяснить. Ни один физик… Да я и не пытался… Послушайте, – взмолился Антон, – я не для того к вам пришел, чтобы теоретизировать по поводу…
– А зачем же? – с интересом спросил Манн.
– Я же сказал! То, что я вспомнил… Убит человек! Жизнь другого человека – девушки – в опасности.
– Ваша тоже, – заметил Манн, внимательно наблюдая за реакцией Антона.
– Да… может быть, – смутился тот, но поднял глаза и сказал твердо:
– Нет, моя жизнь ни при чем. Он меня не видел. Даже… Уверен, что убийца и не мог меня увидеть, иначе я бы почувствовал. Я всегда чувствую какое-то, если хотите, последействие. Вспомнить не могу, воспоминание обрывается, если я начинаю нервничать, но эмоция… Как бы точнее объяснить.