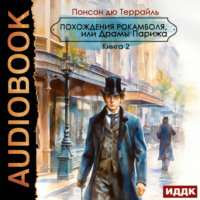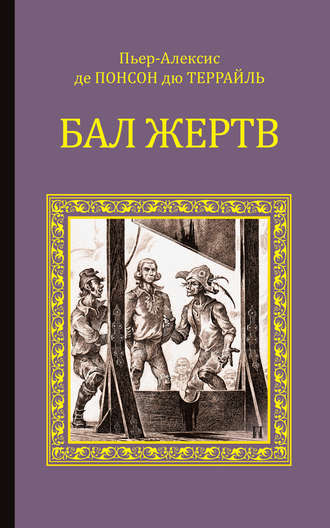
Полная версия
Бал жертв
Фермерша вздрогнула.
– Ах, несчастный! – сказала она. – Ты, верно, хочешь, чтобы отец убил тебя! Ты, однако, знаешь, что стоит только заговорить о ней, чтобы он пришел в бешенство.
– Я это знаю, – отвечал Сюльпис, – но я боюсь не за себя, а за вас, матушка: когда он с вами вдвоем, он вас бьет.
– Ах, господи боже мой! – прошептала бедная женщина. – Пусть его гнев падает на меня, но пусть он пощадит тебя, дитя мое.
– Надо вам сказать, – продолжал Сюльпис, – что у меня есть мысль… О! Какая отличная мысль! Я поеду в Париж, а отец мой не будет знать ничего. Вы знаете, дядя Жан, ваш родной брат, сплавщик в Кламси…
При имени брата слезы мамаши Брюле удвоились.
– Бедный Жан! – сказала она тихо и как бы говоря сама с собой. – Это он допустил мое несчастье.
– Он это знает, – отвечал Сюльпис, – доказательством служит то, что он сказал мне однажды: «Если бы я знал, что твой отец груб и жесток, он никогда не женился бы на моей сестре». Но позвольте мне рассказать вам, матушка. На будущей неделе я поеду в Кламси продавать двух телят, увижусь с дядей Жаном и сообщу ему мою мысль. Вы увидите, что мы условимся во всем. Когда он повезет лес в Париж, он остановится в Мальи и вывихнет ногу, нарочно, разумеется, потом прикажет принести себя сюда на носилках и скажет мне: «Мой милый, тебе надо в Париж везти мой лес, а то я потеряю сотни и тысячи. Если ты поедешь, я заплачу тебе». Вы понимаете, матушка, что батюшка ни о чем не догадается, притом вы знаете, что он угождает дяде Жану ради наследства, стало быть, он сопротивляться не станет и отпустит меня… А так как в мое отсутствие дядюшка Жан останется здесь, то вы будете спокойны. Полноте, матушка, плакать! Хоть бы мне пришлось всю жизнь ходить босиком, я отыщу нашу милую Лукрецию.
– Если только она жива… – прошептала бедная мать.
Сюльпис содрогнулся.
– Уж, разумеется, жива, – сказал он, – разве люди умирают ни с того ни с сего…
– Она, бедная, так страдала!
Фермерша Брюле продолжала плакать. Сюльпис взял ее за руку.
– Вы, однако, должны сказать мне правду, матушка, – продолжал он, – я ведь не знал, зачем она убежала…
Фермерша опять испугалась. Сюльпис подошел к двери и посмотрел на двор – он был пуст. Сюльпис воротился к матери.
– Нас никто не слушает, – сказал он, – и если только вы не имеете ко мне недоверия…
– Недоверия! – вскричала фермерша Брюле. – Недоверия к тебе, мое бедное дитя! Ах, боже мой!..
– Ну, когда так, матушка, – сказал Сюльпис, усадив мать у огня и сам сев возле нее, – тогда скажите мне, как это случилось.
Мамаша Брюле испуганно осмотрелась, потом сделала усилие и решилась излить сыну тайну своего сердца, сжигавшую и мучившую ее так давно.
– Помнишь ли ты то время, – начала она, – когда мадемуазель Берто де Верньер в замке Рош учила девушек петь для праздника Тела Господня?
– Помню ли! Сестра каждое утро ходила в Рош, а мамзель де Верньер полюбила ее.
– С этого-то времени началось несчастье твоей сестры.
– Как это, матушка?
– Она влюбилась в графа Анри.
– Ах, боже мой!
– Разумеется, граф Анри и его сестра никогда этого не знали. Но дочь моя плакала день и ночь и сказала мне в один вечер: «Ах, матушка, я знаю, что я от этого умру!» Я осмелилась сказать об этом отцу. Сначала он рассердился, потом посадил Лукрецию к себе на колени и сказал: «Ты слишком глупа, что плачешь таким образом, малютка!» Она расплакалась еще пуще, а он прибавил: «Вместо того чтобы портить себе глаза, знаешь, что я сделал бы? Вырядился бы по последней моде, так, что глаз не отвести, смеялся бы, чтоб показать мои белые зубки, и так смотрел бы на этого дурака, графа Анри, что он потерял бы голову. Ему только двадцать лет – это прекрасный возраст… Видишь ли, – прибавил твой отец, – если бы я был такой хорошенький, как ты, то захотел бы, чтобы граф Анри был без ума от меня через неделю». «Но, – сказала Лукреция, которая все плакала, – к чему это приведет? Граф Анри знатен и очень богат в сравнении с нами, захочет ли он на мне жениться?» «У меня есть двуствольное ружье, – отвечал ей отец, – когда он тебя скомпрометирует, он должен будет жениться на тебе!..» Лукреция воскликнула с негодованием: «О! Это было бы гнусно! Никогда! Никогда!» С этой минуты она перестала ходить в замок Рош, но заметно изменилась: ее глаза были красны, лицо бледнело, она чахла… Иногда она убегала из фермы до рассвета и пряталась в густых зарослях у входа в лес в надежде видеть, как граф Анри пойдет на охоту, потом она возвращалась домой и, заливаясь слезами, говорила мне: «Я видела его». Отец твой пожимал плечами, говорил, что Лукреция глупа, что, если бы она захотела, она была бы владетельницей замка Рош. Вдруг пошли слухи о женитьбе графа Анри на мадемуазель де Солэй. Я думала, что моя бедная дочь умрет. Она три дня и три ночи была между жизнью и смертью, потом Господь и молодость помогли ей. Она встала с постели и уж не плакала, но глаза ее меня пугали: в них точно горел огонь. Она не говорила, не целовала меня… О женитьбе графа Анри на мадемуазель де Солэй все толковали…
Мамаша Брюле дошла до этого места в своем рассказе, когда на дворе вдруг послышались шаги. Сюльпис побежал к порогу и приметил молодых людей, то есть графа Анри и капитана Бернье. Фермерша Брюле подавила крик отчаяния. Человек, шедший к ней, был невинной причиной горя ее дочери. Граф Анри, не подозревавший, что три года назад он внес несчастье в этот дом, вошел, улыбаясь.
– Здравствуйте, мадам Брюле, – сказал он. – Как мы давно не виделись! Как вы поживаете?
– Благодарю за честь, ваше сиятельство… А как здоровье вашей сестрицы? – спросила фермерша, отирая глаза передником.
– Господи боже мой! Вы точно будто плакали, мадам Брюле…
– Не от горя, – отвечала она, – ваше сиятельство, поверьте, я резала лук.
Анри без церемоний сел у огня и движением руки пригласил своего друга капитана сделать то же.
– Знаете, зачем мы пришли, мадам Брюле? – сказал Анри.
– Может быть, вы пришли от дурной погоды? Ветер так и режет лицо…
– Нет. Мы пришли за нашей собственностью. Где ваш муж?
– С утра уехал на рынок в Мальи, ваше сиятельство?
– Вы это знаете наверняка?
– Как же! Он поехал продавать пшеницу…
– И взял с собою мула, – сказал Сюльпис.
– И вы говорите, что он еще не вернулся?
– Нет еще, ваше сиятельство.
– Как это странно! – сказал Анри, посмотрев на капитана.
Честные лица матери и сына не допускали мысли об обмане.
– Однако прошло уже два часа с тех пор, как он проходил через Фуроннский лес, – заметил граф.
– Это очень меня удивляет, – отвечала мадам Брюле, – возможно, он зашел к соседу на ферму Монетье. У вас разве есть к нему дело, ваше сиятельство?
– Да. Я стрелял волка и думал, что не попал, но волк пал мертвый в ста шагах в чаще. Ваш муж проходил мимо и погрузил волка на своего мула.
– Он вам пришлет, если так, завтра утром в дом… Согрейтесь и отдохните… Идти, должно быть, неприятно в такую погоду…
Сюльпис подошел к порогу и смотрел на серое небо.
– Через полчаса, – сказал он, – пойдет сильный снег…
– Ты думаешь?
– Ну, если пойдет снег, – продолжала мамаша Брюле, – ночуйте здесь… Мы сделали две прекрасные комнаты в том строении, где хранится пшеница… Там генерал ночевал несколько раз, там опрятно и постели хорошие. Ого, как уже поздно, – всплеснула руками фермерша, – почти что семь часов… Вы, должно быть, голодны, ваше сиятельство.
– Сказать по правде, мне очень хотелось бы поужинать с вами, – отвечал граф.
Он переглянулся с капитаном, который знаком головы изъявил согласие. По странности человеческого сердца, часто встречающейся, матушка Брюле, которая должна была ненавидеть этого человека за невольную причину несчастья ее дочери, напротив, чувствовала к нему влечение. Она его любила, потому что его любила ее дочь.
– Ах, ваше сиятельство! – сказала она радостно. – Вы нам делаете большую честь. Я сейчас ощиплю для вас утку, мы насадим ее на вертел, и она мигом изжарится!
– Эй! Сюльпис! Лентяй! – закричал повелительный голос, и в то же время послышался топот копыт на мощеном дворе.
– Я здесь, батюшка, – отвечал Сюльпис и бросился из кухни.
IV
Через пять минут вошел Брюле. Это был человек лет сорока восьми или пятидесяти, не более, хотя волосы его и борода были уже совершенно седыми. У него было простое, открытое лицо, на толстых губах играла улыбка. Среднего роста, скорее худощавый, чем полный, он имел гибкую шею, широкие плечи и казался силен. Этот человек, если верить страху его жены и старшего сына, был домашним тираном и самовластно распоряжался всеми, однако имел как бы в оправдание мнения графа Анри добрейшую наружность.
– Ах, ваше сиятельство! – сказал он, прямо подходя к графу Анри. – Вы не обидели меня, я надеюсь, предположением, что я хотел украсть вашего волка? Женщина, подбиравшая сухие ветки, сказала мне, что вы убили этого волка. Я взвалил его на моего мула и, если бы не стемнело, прислал бы его вам сегодня же, но мне надо было расплатиться с фермером Монетье, и вот почему я запоздал. Завтра на рассвете волк был бы у вас… Славный зверь! Отличный выйдет у вас ковер, только посмотрите!
Сюльпис вошел в эту минуту, неся тушу хищника на плечах. Это был очень большой волк, с черной и рыжей шерстью, с серыми ушами и хвостом.
– Какой славный зверь! – сказал граф, когда Сюльпис положил волка на пол.
– И не испорчен, – сказал фермер, – ваша пуля вошла в плечо, шкура цела. Теперь зима – время, когда шкуры особо хороши…
Пока Брюле говорил, капитан внимательно его рассматривал. «Странно, – думал он, – у этого человека совсем не злодейская физиономия».
Граф Анри улыбнулся.
– Знаете ли, Брюле, – сказал он, – что ваш сын не одних мыслей с вами насчет чужой собственности. Он уверял сейчас, что на вашем месте он не отдал бы волка.
Брюле пожал плечами.
– Так вы встретили этого разбойника? – спросил он печально.
– Полчаса назад; он указал нам дорогу на ферму, а на рубеже леса он вдруг оставил нас и имел бесстыдство сказать, что идет ставить капканы.
– Негодяй! Ах, ваше сиятельство, – со вздохом прибавил Брюле, – этот ребенок приводит в отчаяние мать и отца.
– Отчего же? – спросил насмешливый голос с порога кухни.
Все обернулись и увидели Зайца, который вошел с палкой на плече. На конце этой палки висели кролики.
– А! Негодяй! – закричал Брюле. – Ты опять скажешь, что ты не браконьерствуешь?
Он вырвал у него палку, бросил кроликов на землю и раза два ударил его палкой по плечу.
– Вот тебе, злое отродье! – сказал он. – Вот тебе, негодяй!
Мальчишка застонал от боли, однако дерзости у него не поубавилось.
– Какое несчастье, – процедил он сквозь зубы, – иметь таких глупых родителей!
Он выбежал из комнаты, опять напевая свою песенку: «Жандармский капитан…»
– Мои добрые господа, – прошептал Брюле взволнованным голосом, – давно уже я спрашивал себя: нет ли какого средства исправить этого ребенка, который в конце концов плохо кончит. Я и бил его, и уговаривал – ничто не помогает. Он слишком испорчен.
– Отдайте его в исправительный дом, может быть, он там изменится.
Фермерша разостлала белую скатерть на конце стола, поставила фаянсовые тарелки и положила серебряные ложки, которые вынула из шкафа, потом она пошла за уткой в ту самую минуту, как воротились домой работники, пастухи и Заяц. Птичий двор находился на конце огорода, окруженного живою изгородью, имевшей в нескольких местах проломы. Работники фермы, не стесняясь, проходили сквозь изгородь для кратчайшего обхода, и мало-помалу образовались такие проломы, в которые человек мог свободно пройти. Мадам Брюле, взявшая фонарь, прошла через огород в курятник, выбрала самую жирную утку и унесла ее, несмотря на возмущенные вопли птицы.
Вдруг фермерша остановилась с беспокойством – ей послышалось, что кто-то идет позади. Она обернулась, и вдруг фонарь выпал у нее из рук, но она не вскрикнула, не сделала ни малейшего движения. Мадам Брюле стояла, точно окаменевшая, с пересохшим горлом, с неподвижными глазами, как будто какое-нибудь странное видение явилось перед нею.
Фермерша стояла лицом к лицу с нищей. Бедная девушка, худая и бледная, шла босиком и в лохмотьях… Она сделала еще два шага, шатаясь, и, как бы разбитая непреодолимым волнением, потом стала на колени и прошептала одно только слово:
– Матушка!..
Мадам Брюле вскрикнула от радости, испуга и ужаса и, схватив дочь обеими руками, стала обнимать ее так, как будто боялась, чтоб Лукрецию опять не отняли у нее.
– Теперь ты не уйдешь, – сказала она глухим голосом.
Она забыла от радости всех на свете, забыла даже того страшного человека, который обещал убить ее дочь, если она воротится. Она обняла девушку, поцеловала в лоб и глаза и залилась слезами.
– Ах, матушка, – шептала Лукреция, рыдая, – простите ли вы меня? Знаете ли вы, что я пришла из Парижа пешком и просила милостыню… Когда я почувствовала, что скоро умру, я захотела увидеть вас…
– Умрешь? Умрешь?! – вскричала бедная мать. – Господь этого не допустит… Умрешь! Умрешь! – повторяла она как бы в бреду. Она обняла дочь и повела ее на ферму, но на дворе она остановилась с испугом. Конечно, в эту минуту она не боялась гнева своего мужа, она защитила бы свою дочь и прикрыла бы ее своим телом, – нет, она думала о другом: граф Анри был тут! Граф Анри был причиною несчастья ее дочери, вид его, может быть, убьет ее…
Господь дает мужество и героическое вдохновение матерям. Фермерша увела дочь к тому строению, где Брюле сделал две новые комнаты. Возле этих комнат была другая, где спал Заяц, в эту-то комнату мать отвела свою дочь и положила ее на кровать, говоря:
– Я должна приготовить отца к твоему возвращению… Это может его убить.
Лукреция Брюле, бедная нищая, была послушна, как ребенок. Она проливала безмолвные слезы, смотря на мать и покрывая ее поцелуями. Мать поцеловала ее в последний раз, а потом убежала, крикнув на ходу:
– Я пришлю к тебе Сюльписа.
Она сошла на двор, едва дыша, ее бедное сердце сильно билось в груди; она дошла до двери кухни, крича:
– Сюльпис! Сюльпис! Я погасила фонарь, поди ко мне!
Когда Сюльпис вышел, мать бросилась к нему на шею и сказала замирающим голосом:
– Поддержи меня, у меня нет больше сил. Она здесь… Моя дочь… Наша Лукреция, она воротилась… Не кричи! Отец услышит…
Добрый Сюльпис чуть не грохнулся наземь, но мать возвратила ему силы и присутствие духа, сказав:
– Я ее спрятала в комнате Зайца, беги туда, разведи огонь: она озябла… Бедная малютка! Она бледна, как смерть… Не вздумай говорить ей о графе Анри – это убьет ее!
Сюльпис убежал. Фермерша, которой опасность, угрожавшая дочери, возвратила беспримерную энергию, имела мужество воротиться в огород, поднять фонарь и взять из курятника другую утку, потому что первая убежала.
Она имела столько самообладания, что воротилась в кухню спокойной и с сухими глазами. Во время ее отсутствия сели за стол. Служанка разливала суп. Фермерша налила бульон в деревянную чашку и унесла ее.
– Куда ты идешь, жена? – спросил Брюле.
– Я несу это бедной женщине, которая сейчас прошла мимо; она очень озябла, проголодалась и попросила позволения согреться в хлеву.
Брюле хотелось оправдать свою репутацию добрейшего человека на свете.
– Ты права, жена, – сказал он добродушно, – надо всегда делать добро, когда можешь. Приведи сюда эту бедную женщину, пусть греется у огня.
– Она не хочет, – отвечала фермерша, – она стыдится.
Когда она ушла, Брюле взглянул на своих гостей.
– Однако в теперешнее время, когда столько поджогов, опасно пускать к себе бродяг. На прошлой неделе за два лье отсюда сгорела ферма, а накануне там ночевала нищая.
– Неужели справедливы все эти истории о пожарах? – спросил капитан.
– Увы! Да.
– И это точно, что поджигают с умыслом?
– Всегда… Мы все боимся, потому что если сегодня очередь одних, то завтра придет очередь других.
– Кого же подозревают? – спросил капитан.
– Неизвестно… У каждого свое. Одни уверяют, что тут замешана политика; другие говорят, что поджигают разбойники. Кто может это знать? Ах! Я, к несчастью, человек ничтожный, но на месте правительственных людей я захотел бы все разузнать.
– Говорят, – сказал один работник, – что есть такие люди, которым ежегодно платят.
– Ах, да! Страховые общества – это известно, но меня на это не заманишь.
– Как! – сказал капитан, продолжавший смотреть на Брюле. – Ваша ферма не застрахована?
– Нет.
– Ни ваш скот, ни ваш хлеб?
– Ничего.
– Напрасно! Вам надо застраховать. Если у вас случится пожар, вам заплатят.
– А как хорошо смотреть на пожар! – сказал вдруг Заяц. – Я видел, как горела Френгальская ферма, точно будто канун Иванова дня.
Глаза Зайца сверкнули. Капитан внимательно на него посмотрел.
V
Воротимся на час назад и последуем за Зайцем, который проскользнул в Лисью нору. Он прополз шагов двадцать, когда красный свет бросился ему в лицо. Нора расширилась, увеличилась, и Заяц очутился у грота футов в восемь величины и в три вышины. Посередине стоял фонарь, около которого сидели три человека с лицами, вымазанными сажей, так что их нельзя было узнать. Они были одеты, как крестьяне: в синих камзолах, в шапках из лисьей или козьей шкуры и в саржевых панталонах. Возле каждого на земле лежало ружье. Незадолго до неожиданного прибытия Зайца тот, кто казался начальником, говорил:
– Не надо ничего делать некоторое времени. Нас ищут.
– Разве вы боитесь, Головня? – спросил второй.
– Боюсь? О, нет! Нам платят так хорошо, не считая барышей от поджогов, что нам не следует пренебрегать этим делом, но надо быть осторожными – это главное… Я знаю, что я пользуюсь хорошей репутацией и что меня подозревать не станут, но все-таки довольно одной минуты – и нас гильотинируют.
– Слава богу, еще до этого не дошло!
– Я имею новые инструкции: мне приказано щадить старых дворян.
– О! – сказал третий, молчавший до сих пор. – Мы исполняли дело добросовестно: до сих пор жгли только мещан да выскочек.
– Вот они-то приметили, – сказал Головня, – и воображают, что поджигают роялисты, чтоб Франция возненавидела республиканское правление.
– А! Это говорят? – сказал второй.
– Да, Охапка, – отвечал Головня.
– Стало быть, теперь надо поджигать дворян, – сказал третий, которого звали Ветер.
– Не всех, а некоторых.
– Кого же здесь поджигать?
– Я выбрал.
– А!
– Мы сожжем замок Рош.
– Замок графа Анри?
– Почему бы и нет? Во-первых, я на него сердит, – сказал Головня тоном, не допускавшим возражения.
– А потом?
– Потом, – холодно сказал начальник, – мы подожжем Солэй, это замок хороший… Он вспыхнет, как хворост…
В эту минуту послышался крик Зайца. Головня вскочил и схватил ружье. Товарищи последовали его примеру.
– Это Заяц, – сказал Головня, – зачем он пришел? Верно, случилось что-нибудь новое.
Головня ответил на крик Зайца. Через пять минут мальчишка уже был среди поджигателей. У Зайца была расстроенная физиономия, а руки и ноги в крови.
– Кажется, нас хотят подловить, – сказал он.
– Ты откуда? – спросил Головня.
– О! Это целая история.
– Говори скорее!
– Вот в чем дело: я шел по лесу и встретился с Жакомэ.
– О, разбойник! – прошептал Головня. – Я ему не доверяю после френгальского дела… Я побожусь, что он меня узнал… Встреться он мне в лесу в тридцати шагах, я с ним вмиг расправлюсь. Продолжай!
– Жакомэ шел с графом Анри и с офицером… – рассказывал мальчуган.
– Куда они шли?
– В Раводьер. Граф Анри хочет волка…
– Ну, отдадут, велика важность?
– В Оксерре дают пятнадцать франков…
Головня пожал плечами.
– Далее? Далее? – сказал он с нетерпением.
– Жакомэ предложил мне проводить этих господ в Раводьер. Мне обещали тридцать су, я согласился. Жакомэ ушел… Но офицер – он, кажется, капитан – мне не понравился. Я заставил его разговориться. На краю леса я сказал: «Дорога прямая, вот ферма». Я вошел в чашу, лег наземь и слышал их разговор…
– О чем же они говорили?..
– Капитан сказал: «Я преследую не браконьеров, а поджигателей…»
Головня вскрикнул:
– Ах, каналья! Я знаю, кто это…
– Вы его знаете?
– Нет, но меня предупредили.
Оба товарища и Заяц с любопытством посмотрели на начальника.
– Теперь уж не надо делать глупостей, надо действовать осторожно, – сказал Головня. – Меня не обманули, сказав, что сюда прислан офицер, который уполномочен на все, даже сменить префекта. И ты говоришь, что он шел с графом Анри?
– Да.
– Теперь я понимаю, – сказал Головня с ироническим видом, – почему замышляют сжечь замок Рош.
– Почему? – наивно спросил Заяц.
– Потому, дурак, что у графа Анри живет офицер… – ответил Головня.
– Позвольте, – сказал Охапка, – меня одно подмывает…
– Что такое?
– Для кого мы трудимся?
– Для нас самих.
– То есть мы пользуемся пожаром для грабежа.
– Стало быть, ты видишь, – заметил Головня, приняв наивный вид, – что мы трудимся для себя.
– Да, но нам платят…
– Стало быть, это не для одних нас, – заметил Ветер, в свою очередь.
– Ну, мы трудимся для тех, кто нам платит.
– Вот именно это-то я и хочу знать.
– Ты хочешь знать, кто нам платит?
– Да.
– Я начну тем, что замечу тебе, мой милый, – сказал Головня, – что, когда я завербовал тебя, ни ты, ни твой товарищ не расспрашивали ни о чем.
– Да, но теперь я хочу знать.
– Для чего?
– Потому что мне невесело рисковать головой каждый день.
– А когда ты узнаешь, для кого ты рискуешь, разве опасность сделается меньше?
– Нет, но…
Головня бросил на него злой взгляд.
– Если ты не хочешь работать с нами, ты можешь отступиться.
– Я этого не говорил.
– Только ты должен помнить о Бертране, нашем товарище, который ушел в одно утро по лесу продать нас в Оксерре…
– Ну?
– Он не дошел до Оксерра, он был остановлен… пулей..
– О! – сказал Охапка, вдруг смягчившись. – У вас дурной характер, Головня. Я не хочу бросать товарищей, я только хочу знать, кто нам платит.
– Люди, живущие в Париже.
– Кто такие?
– Сказать по правде, я сам их не знаю.
Эти слова вызвали удивленное восклицание у товарищей Головни.
– Право, я их не знаю… Вот уже целый год я тружусь для них, а видел только одного…
– Однако вы видели его?
– И да, и нет.
– Это странно! – сказал Заяц.
– У него на лице был красный капюшон, и я видел только его глаза, сверкавшие, как уголья.
– Это он дает вам приказания?
– Да.
– Каждую неделю?
– Почти.
– И у него всегда голова покрыта капюшоном?
– В те дни, когда я его вижу, потому что я не всегда вижу его.
– Как это?
– Бывают недели, когда я получаю от него инструкции письменно.
– Кто вам их приносит?
– О, будьте спокойны, – сказал Головня, смеясь, – не почтальон.
– А кто же?
– У начальника и у меня есть ящик, и каждый из нас ходит туда, в свою очередь.
– Какой же это ящик?
– Это дупло в дубе в лесу. Я пишу донесения и кладу их в дупло. На другой день прихожу – моего донесения уже там нет, а лежат новые инструкции. Вчера я нашел приказание сжечь замок Рош.
– Когда?
– Вот этого я пока не знаю, но скоро узнаю. Я собрал вас сегодня для того, чтоб предупредить, чтоб вы были готовы.
– Хорошо, – сказал Ветер, – тем охотнее будем мы готовы, что в замке Рош должна быть добыча.
– Ты думаешь? – спросил Головня.
– Серебряная посуда, белье, деньги…
– Однако граф Анри небогат.
– О! – отвечал Охапка. – Это для того, чтоб спасти свою голову, он распустил слухи три года назад, что он разорен.
– Увидим!
Когда Головня произнес это последнее слово, поджигатели и он сам поспешно вскочили и схватили свои ружья. Послышался крик совы.
– Мы, однако, не ждем никого! – вскричал Ветер.
– Нас отыскали жандармы! – воскликнул Охапка.
Но крик совы продолжался и изменялся каким-то особенным образом.
– Это начальник! – сказал Головня, лицо которого, на минуту нахмурившееся, прояснилось.
– Начальник?
– Да, тот, кто отдает мне приказания. Оставайтесь здесь, никто не должен трогаться с места до моего возвращения… Оставайся здесь, Заяц.
Взяв свое ружье, Головня бросился из Норы. В трех шагах от отверстия неподвижно стоял человек.
– Это вы, начальник? – спросил Головня.
Человек сделал утвердительный знак. Головня приблизился. Человек был закутан в большой плащ и имел на голове шляпу с широкими полями, а под шляпой красный капюшон, о котором говорил Головня. Он взял Головню за руку и увел его в чащу леса.