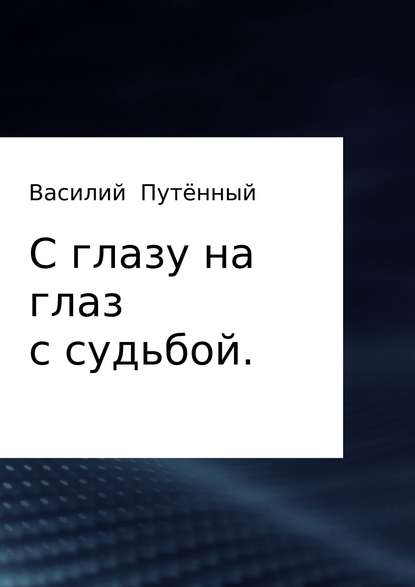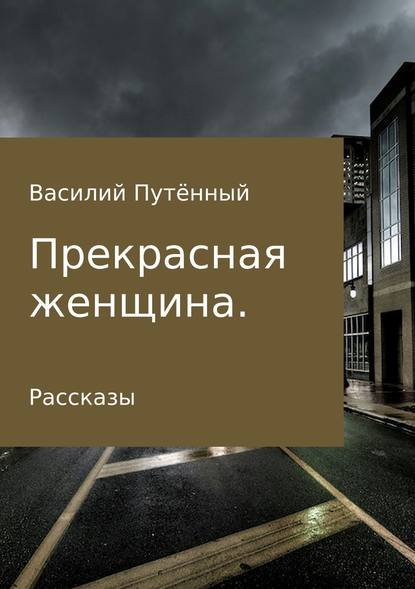Полная версия
Соната

Контактные данные:
Василий Васильевич Путённый
Email: maximenkocatherine@gmail.com
Тел.: 044 512 38 36
050 659 73 35
От автора
События романа – так называемая Горбачевская перестройка, восьмидесятые годы. Автор вскрывает недостатки и пороки тех лет. Несмотря на одобрительную рекомендацию М.П. Стельмаха, классика украинской литературы, чинуши-критиканы не дали выйти в свет этому произведению. Даже, предположим, если бы роман «по-волшебству» опубликовали, то автора упекли бы в тюрьму, или – в дурдом, как и случилось с главным героем романа Павлом Валуновым – музыкантом, композитором.
Автор благодарит Сергея Владимировича и Любовь Григорьевну Поштаренко за содействие в напечатании этого произведения, которое столько лет незаслуженно было в «забытьи!»
ВАСИЛИЙ ПУТЕННЫЙ
Василий Путенный
СОНАТА
РОМАН
Посвящается Светлане Васильевне Мельник – жене и другу
Глава первая.
І
Окна. Их так много, что не сосчитать. Сережка смотрит на них и думает: «Окна – не озвученные мелодией ноты. И солнце – самая звучная нота мирозданья.»
В этом доме, что напротив, Сережкин отец ремонтировал и настраивал рояль. Во-о-он некрашенные окна второго этажа наглухо закрыты – хозяева, видать, уехали на дачу. Когда Сергей смотрел на рояль, весь в царапинах и вмятинах, будто по нему били молотком, ему казалось, что тот, отражая их с отцом, стонет как раненый. Мальчик видел, как дрожали руки отца, прикасаясь к струнам, и знал, что тот готов был изругать последними словами хозяев, а их толстозадого «паиньку», подбрасывающего то и дело перочиный ножичек, хотел хорошенько отшлепать.
«Варвары! Вандалы! – чуть было не закричал Павел, весь бледный, с подрагивающими губами. Так изуродовать святыню!».
Он обтянул белым войлоком деревянные молоточки, приклеил новые костяшки к незападавшим клавишам, починил педаль и потом стал настраивать изогнутым ключом инструмент, прислушиваясь к каждой ноте – как врач к сердцу больного. Звук летел высоко – опускался тая. Сергею казалось: живой звук не умирал – навсегда оставался в его сердце. Подравняв наждачной бумагой зашпаклеванные царапины и вмятины, Павел начал полировать, кругообразно нанося завернутым в марлю кусочком байки слой за слоем на поверхность, и улыбающемуся Сережке хотелось хоть на минутку стать роялем, чтобы, остро пропахнув политурой, ощутить нежность и ласку отцовских рук.
Когда вышли на улицу, Павел нахмурено молчал, и Сергей , понимая, что на душе у отца нехорошо, тоже молчал. Он вспомнил лишь, как однажды сказал отец: «Пианино, рояли – ну как дети! Сколько среди них беспризорных, неухоженных?! А сколько больных?! Хочу всех их вылечить, чтоб потом лечили нас, людей, музыкой.»
И Сережке хотелось сказать: «Ты их вылечишь, отец, и они в каждой мелодии будут вспоминать тебя…» – Но не сказал – и вдруг покраснел, застеснялся своих мыслей.
Одни пешеходы спешили, другие – нет, словно счастье было у них на закорках, и они были уверены, что оно никогда не покинет их.
«Какие все задумчивые, серьезные, – старался незаметно всматриваться в лица прохожих Сергей. – Спешат, торопятся. А финиш будет? Жизнь бесконечна, она без финиша. Мне нравится этот эйфелевого роста дяденька с усами, как подкова. Но почему он оборачивается почти на каждую девушку и женщину, которые одеты в красивые платья и джинсы? Вот улыбнулся мне, подмигнул, похлопал по плечу, будто я его давний знакомый. И взгляд у него как шашлычный шампур, на который он нанизывает всех красивых девушек и женщин… и меня.»
На Крещатике, как всегда, многолюдно. Сереже, одетому в белую тенниску, очень жарко. Он вспотел и потому очень стесняется, ибо ему кажется, что все смотрят на его потное лицо. Он быстро, почему-то волнуясь, вытирает платочком лоб и лицо. Мальчик слышит альты, басы, тенора, баритоны, разговоры с акцентом и без, легкое шуршание автомобильных шин на дороге, шепотливость платьев и брюк – и все это для него живая, волшебная, радующая сердце музыка. Сесть бы сейчас ему за пианино – и польется-запоет из-под пальцев веселая и бессмертная мелодия жизни.
«Какое небо! – улыбается он голубизне, кареглазо глядя. – Люди, смотрите какое небо! Оно говорит нам о вечности жизни. Хочу его обнять, поцеловать. Оно, вероятно, пахнет вселенной».
Вчера Сергей с Володей Силушкиным ходили на вернисаж. Смотрели портреты, пейзажи, натюрморты Николая Николаевича Торова, живописца, которого очень любит Володя и старается ему подражать. «О, Николай Николаевич – психолог! – говорил Силушкин – Так изобразит человека, глаза его – почувствуешь и сердце, и душу его. Смотришь на портрет – и сострадание наполняет тебя, ибо видишь в глазах этого человека горе и печаль. Что ни говори, а Торов Николай Николаевич – Чехов в живописи!»
Друзьям очень понравился пейзаж, где голубело небо, под которым весело перешептывались колосья поспевающей ржи, а вдали зеленела полоска леса. Сергею казалось, что он шел этим полем, касаясь теплых поющих колосьев, и дышал духмяным запахом хлебов. Потом он долго стоял возле портрета старушки: на лице тайнопись морщин и морщинок и каждая из них как бы рассказывает о трудно прожитых годах. Сергей мысленно разговаривал с этой старой женщиной, сочувствовал ей, но чего-то все же еще не понимал и оттого испытывал чувство несказанного сожаления. Он смотрел на нее искренне, открыто, чуть стесняясь, боясь в ее присутствии сделать лишнее фальшивое движение, напускную мимику, желая в эти минуты сделать что-то хорошее и даже совершить подвиг во имя старушки. И уходить не хотелось из зала, все казалось, старушка обидется на него, заплачет. И взгляд ее – просящий, зовущий – он ощущал даже ночью, не засыпая, и знал, с ним он будет всегда.
Когда Сергей подошел к метро «Крещатик», электронные часы на фасаде показывали полдвенадцатого.
2
Навстречу Сережке бежит черно-белая кудлатая овчарка колли. Прижав уши и виляя хвостом, она тенористо поет радостную собачью песенку, приветствуя друга. Рута скромно-стеснительно понюхала хозяйственную сумку Сергея, стала лизать его руки и лицо, обмахивая хвостом как веером.
– Здравствуйте, Аделаида Кировна! – Взгляд хозяйки поднял мальчика с корточек. Женщина была в джинсах и цветистой заграничной блузе, в руках – поводок.
– Добрый полдень, Сережа! – напряженно улыбнулась, будто ее заставили.
Тогда, возле метро «Арсенальная» она так же улыбнулась, попросив Сергея помочь ей донести набитые чем-то тяжелые две спортивные сумки. Потом он познакомился с дочерью Аделаиды Кировны – Светой, которая сказала: «Не правда ли – моднецкое имя – отчество у моей маменции? Благозвучное и редкое. Вслушайся: А-де-ла-ида! Благородная значит. И корень-то какой – «дело»!»
– Скоро этой экспериментально-производственной мастерской не будет! – радостно сказала Аделаида Кировна, величественно взглянув на крыльцо проходной. – Написала в нужные инстанции, собрав подписи жильцов этого проулка. Даже, представь Сережа, ходила в Совмин. И детсадик здесь не построят, если снесут эту мастерскую, – я и этого добьюсь!
И словно дернула она что-то в душе мальчика, и понял он, с кем стоит, и рвалось наружу неосознанное отвращение.
– Кому, извините, нужен этот научно-технический прогресс в нашем тихом, с тополями и кленами переулке? –Не Сергею – кому-то другому говорила Аделаида Кировна, все так же глядя на проходную и веря в магическую силу своего взгляда. – Людям при нынешней демократизации и гласности нужен покой, а не это несимпатичное соседство! Да! За город, только за город их надо выдворить! Чего стоит их чудовище, на котором работяги по утрам клепают и чеканят что-то. Я не могу в такой шумной шумной обстановке с упоением читать на диване лирику Сантильяна Лопеса де Мендоса Иньиго. Совмин мне кардинально поможет – скоро здесь будет орудовать бульдозер! – Слово «бульдозер» было выкрикнуто громко и страшно, будто это огнедышащий дракон.
И опять показалось Сережке: что-то больно переставила она в его душе, и он с внутренней злобой вперился в ее холеное, ярко разрекламированное косметикой лицо.
Рута лизала ему руки, как бы доказывая свою доброту и уважение к нему, а он, чувствуя это и одновременно думая о другом, машинально гладил ее длинномордую голову.
«Чем она ей мешает… эта тихая мастерская?» – И сказал:
– Я пойду. Мне надо идти. – И такое у него в душе ощущение, словно она отобрала что-то.
– Сережа, надеюсь, что после посещения этого заведения ты непременно зайдешь к нам? Наша Лануся с огромным нетерпением ждет тебя! Она создала, на мой взгляд, гениальный опус. Вальс – скерцо! Обворожительная вещица, должна сказать!: Пофилософствуете о житие – бытие за стаканчиком коктейля, а потом помузыцируете в четыре руки.
Хотел ответить: «Не хочу! Не желаю!» – но желание услышать сочинение, написанное Светой, было настолько велико, что он сказал:
– Сегодня, к сожалению, не смогу. – И про себя добавил: «Может действительно шедевр. Надо послушать… Волосы какие-то у Аделаиды Кировны . Точно синькой подкрашены… Рута, я тебя люблю! Пока, собачушечька!»
– К отцу? – Улыбается, ласкает глазами вахтер.
– Да, дядя Гриша.
– Ну, заходь в дежурку, мой министерский кабинет – побалакаем о том– сем. Через окошко не сподручно.
– Ничего, Григорий Васильич, я здесь… – И покраснел, подумав, что не хорошо отказывать. Вообще-то, он хотел зайти в вахтерку, но, вспомнив, как вчера глянул-стрельнул на него мастер механического участка, передумал.
Сережке очень нравилась проходная с ее узеньким коридорчиком,
по деревянному полу которой, стуча каблуками, то и дело шли рабочие и начальство. Вертушка вращалась поскрипывая – считала стаж каждому проходившему.
– Проходная наша, что пристань, – говорит Григорий Васильевич – очки с треснутым стеклом на лбу, читал, должно, «Правду». – И ты к ей примкнул. Так ведь?: Вот и каникулы у тебя пошли, а летушко нынче доброе, солнечное! В какой классище перекочевал?
– В шестой.
– Время пролетит– проторопится, глядь – и нету годков, убегли, позади все, в воспоминаньи осталися, а в награду седина. Вот и у тебя: школу скончишь, отсолдатишь посля, годки – прыг! – и нету, как воробей с ветки на ветку. Но не унывать, только не унывать! Печаль и грусть – плохи попутчики в жизни. Радость, веселость – вот это друзья, с ими не пропадешь нигдешечки! – Вздохнул: – И памятку по себе надобно оставить добрую. Довбенко, ты куда это? – привстав, обратился к выходящему.
– В лабораторку! Там бабахнуло щось, треба чинить! – и побежал – застучали ступеньки крыльца.
– Брешет, вижу по глазам брешет же, потвора! Вернется – по карманам полапаю как штык! У меня ядовочные изделия не пронесет! – И вдруг с лукавинкой улыбнулся, сощурив глаза и показывая железные зубы. – Слышь, Сережка, меня хлопци Штирлицом прозвали. Ну этот… из «Семнадцати мгновений» который. Какой я Штирлиц? Тот и красивший и статный, мужик что надо, а я старик в башмаках ортопедических, с зубами Бабы-Яги. – И, шлепнув себя по лбу, сказал: – Вспомнил! Передай отцу чтоб штиблеты свои принес. Лапка у меня имеется – починю. А то замок сделал, на дверь поставил, ни копейки не взял.
Когда Сергей пошел, Григорий Васильевич, глядя ему вслед, словно благословляя, подумал: «Хороший парень! А у меня внуки…» – и раздосадованно махнул рукой как бы в их сторону.
Во дворе работает называемая рабочими «гильотина» – большое верхнее колесо подзенькивает, вероятно цепляясь за что-то. Александр Михайлович в кепке и синей спецовке, посвистывая, рубит лист железа на полосы. Он нажимает на педаль, тяжелый острый нож с рычанием опускается – и узкая полоска металла падает на землю.
Сергей стоит и ощущает, как от каждого удара ножа вздрагивает земля, и ему кажется, что она не то испуганно охает, не то тяжко вздыхает.
–Мильон раз говорил им об навесе, – сопит Александр Михайлович в надежде, что за спиной у него стоит мастер или начальник. (Человек вообще так устроен: высказывая в слух свои мысли и суждения, он думает, что рядом с ним стоит ученый муж или кто-нибудь «сверху»,– услышат они – и авось все изменится к лучшему. Или, напротив, осуждая кого-то, надеется, что его поддержат, а виновники, быть может, перевоспитаются.) – А им все трын-травушка! Аквариумы, вентиляторы, теплые кресла под ягодицы – об этом они помнят!..– Оглянулся. – А –а, джигит, здоров-здоров!
Александр Михайлович поправляет кепку, поглаживает пальцами широкие – вразлет – черные брови, усмехается. Вынул из кармана брюк красную коробочку и, открыв ее, лижет языком содержимое. Сережка обескуражен: «Неужели это вазелин или какая другая вкусная парфюмерия? А вдруг это мед – а?» Появляется властное мальчишеское любопытство, но отрок, прикусив нижнюю губу, подавляет его в себе, и незаданный вопрос остантся в недрах сознания.
– А ты всегда слушай, что говорят старшие, и записывай на пленку памяти своей! – нажал на красную кнопку – и «говорящее» колесо мало-помалу стало замедлять свой ход, как будто довольное предстоящим недолгим отдыхом.– В тебе наша рабочая, закваска, из теста простого – не сдобного – слепленный, и кровушка-речка течет в тебе нашенская! – Они смотрели друг на друга, и Александру Михайловичу так хотелось иметь именно такого сына. – Вот, положим, Сережка, была б такая книга просьб – наших, рабочих. Так знаешь, из сотен страниц этой толстенной книги очень мало просьб выполнила вся администрация нашей страны. Хотя говорят и обещают очень вкусно. Одним словом, замах – рублевый, удар – ерундовый. Верю, Сережка, ты и тебе подобные, то есть ваше поколение, удовлетворите и реализуете все просьбы рабочего класса! Ведь если проявить заботу и уважение к рабочему, он отплатит сторицей! Что, калории принес батяне? – кивнул на сумку.
– Да…
– Чую носом: принес опять битки, картошку и чаек в термосе. Сам жарил-шкварил? Или мать?
– Мать с ночной еще не вернулась…– Сказал и показалось, что мать услышала это и даже все видит сейчас. Вот перед глазами извиняющаяся улыбка ее, Сергей почти явственно ощущает доброе стесняющееся прикосновение ее рук.
– Да не тушуйся ты как красна девица!..Эх, мне бы такого повара – на руках носил! Пошли в цех!
На токарном участке гудят станки.
«Каждый обтачиваемый резцом металл звучит по-своему, – вслушивается Сережка. – У стали – своя нота, у латуни и алюминия – своя… Сколько звуков на участке, и все разные. Вон у токаря, что в защитных очках, под резцом попискивает – посвистывает латунь. Нет, это не какофония, это маленькая сонатина труда!»
Угрюмо-мудрый станок отца молчит. Болванка, зажатая в патроне, наполовину проточена. Сергей подходит к верстаку, что у окна, прикасается к тискам и ему кажется, что тепло отцовских рук осталось на них. Ему хочется включить старенький станок и, услышав его басовитый голос, ощутив ветерок от патрона, доточить болванку. Он включив cамоход,
не торопясь проточил бы ее проходным резцом, похожим на большой зуб динозавра, – стружка кучерявилась бы, звенела, падая в поддон. И так весело было б в душе его, словно там что-то улыбалось и танцевало. И чувствовал бы он ветерок радости, щекотливо касающийся сердца, и думалось бы, что точит деталь для спутника или космического корабля; и слышал бы теплое дыхание отца за спиной и его строгое: «Расслабся, Сережка, больше уверенности!»
Мальчику подмигивали, поднимали ладонь восклицательно, говорили: «А-а, Серж, приветик-приветик! Ну как делишки у мальчишки?» – и до того хорошо, будто все они родные братья его.
– Сережка, шагай сюда! – кричит на весь цех Александр Михайловичь, и мальчику кажется, что все посмотрели на него, и он краснеет, как, бывало, в кругу друзей-одноклассников, когда пионервожатая говорила о нем.
Сергей идет через широкий вход на слесарный участок, отделенный стеной от токарного.
Жужжит сверлильный станок. Вон высокий парень, зажав в тиски алюминиевый кругляк, вжикает напильником – серебристая пыль металла ложится на ботинки. Сборщики склонились над серой продолговатой коробкой, внутри которой много шестеренок, и, перебивая друг друга, тыча в нее пальцами, доказывают что-то.
Александр Михайлович, верстак которого стоит рядом с конторкой мастера и впритык к обтерханной стенке, включил транзистор, чтобы, вероятно, утихомирить спорщиков. Из эфира несется:
– «Первое: поступайте с другими так же, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами, – говорил уверенным голосом ученый, понимая, что сказанное не панацея. – Второе: признайте, что совершенство невозможно, однако в каждом виде достижений есть своя вершина, к которой необходимо стремиться. Третье: с какой бы жизненной проблемой вы ни столкнулись, взвесьте сначала, стоит ли она того, чтобы вступать в борьбу. Четвертое: если вам предстоит удручающе неприятное дело: вскройте нарыв, чтобы быстрее устранить боль. Пятое: чтобы научиться расслабляться, полезно овладеть приемами аутогенной тренировки. В этом вам помогут врачи-психотерапев-ты…»
Так, надо дать ему отдохнуть, охрип маленько, – Александр Михайлович выключил приемник. – Садись! – хлопнул ладонью по круглому железному стулу. – Отец сейчас придет – по делам пошел.
Александр Михайлович, сидя на стуле возле верстака, крутит валик на кронштейнах, прищурившись смотрит сквозь очки на стрелку измерительного прибора – та словно пульсирует. Улыбается – довольный.
– На таком рухлядном станке ДиПе – догоним и перегоним США – да такая точность! – восхищенно покачивает головой. Радостно посвистел. – Руки у твоего отца как у Страдивари! Бесценные – все могут! Валик точь-в-точь по чертежу, микрон в микрон. Без О Т К работать может – на всех деталях у него Знак качества!.. Вам бы так работать, бракоделы! – обернувшись, крикнул сборщикам.
Ему не ответили, делая вид, что не услышали и очень заняты.
В двух шагах от верстака Александра Михайловича стоит установка, похожая на большой шкаф с металлическими дверками и пластмассовыми оконцами, сквозь которые видны валики.
Сергей с умилением смотрит на установку. «Как шарманка, – хотел прикоснуться к обшивке. – Стоит нажать кнопочку – заиграет-загрустит, времечко старое вспоминая.»
– Что, нравится детище мое? – Александр Михайлович подошел, похлопал Сережку по плечу. – Я памятник себе воздвиг… рукотворный! Чуток великого Пушкина перефразировал. Ну как – после школы придешь к нам работать?
– Приду… – И, вспомнив разговор с Аделаидой Кировной, поинтересовался: – А мастерскую не упразднят… не снесут?
– Снесут – в другом месте работать будем! Эти руки всегда в дефиците! -
и показал свои огромные, загорелые – как два каравая – ладони.
Александр Михайловичь зажег лампочку в камере и, открыв дверку, полез в нее.
– Сережка, – кричит как из колодца, – топай сюда! – Сергей подбежал. – Попридержи дверцу!
– Михалыч, может, останешься в своей барокамере? – кто-то из слесарей решил подтрунить.
– А кто план будет давать – ты, что ли? Ты же после опохмелки, зюзя, синусоиды выписываешь на дороге!
– Не намекай, Саня, вытрезвитель и по тебе плачет.
– Сережка, а ну заткни уши – я этому академику скажу пару нежных комплиментов! – Сергей даже зажмурил глаза. – Я пью за свои, не злоупотребляю, а вот ты, ханурик и крокодил, обираешь собственную жинку и детей! И не пошел бы ты, горчичник, мать твоя с бабушкой и дедушкой!.. Сережка, ты, что, спишь? – высунувшись дернул его за брюки. – Масленку тащи!
Когда Александр Михайлович вылез и закрыл дверку, Сережка, волнуясь и смотря ему прямо в глаза, спросил:
– А для… то есть, что в ней будет?
– Окорока коптить будем, – усмехнулся Александр Михайлович. – Говорят заказ какого-то научно-исследовательского института бумажной промышленности. Кто его знает, может, в этой камере денежные водяные знаки будут проявляться?
Пахнет дымом горьковато-едким – кто-то работает на большом сверлильном станке.
– Снова этот экспериментатор пришел со скипидаром, – кто-то из слесарей недовольно.
– И нержавейка у него цесаркой кричит!
– Слушай, Шихман, кончай партизанить – нам не нужна дымовая завеса!
– Всухую никак нельзя, должна быть обязательно смазка, а то свердло сломается, – спокойно так, на полно серьезе рассуждает Шихман, а Сережке показалось, что это он специально сказал неправильно «свердло», чтобы чуток рассмешить и смягчить сборщиков. И не без сквозящего в глазах ехидства добавил: – Я знаю, Фима, ты злишься за то, что я в субботу на ипподроме выиграл стольник, а ты просадил зря четвертную. Говорил же тебе: ставь на гнедого русского жеребца Гран Лоу, а тебя Змей Горыныч дернул поставить на этого задрипанного вороного Тургора. Тут уменье, чутье, инстинкт должны быть в наличии, а у тебя этого комплекса полноценности вовсе нету. Тотализатор такая коварная путана: сегодня – я, а завтра – ты.
– Якшаешься с конюхами и наездниками – вот твой комплекс! Слышал я, как в пятом заезде один другому кричит: «Придержи мерина, финиш мой!»
– Не ерунди, Фима, никакого блата у меня нет. Все это кануло в лету.
Просто тебя зависть колошматит. А в пятом заезде, кстати, был мертвый гит, а в седьмом – экспресс, а в десятом – дубль. – И ухмыльнулся.
– Злорадствуй-злорадствуй! Не знаю я твоих терминов, скажу: жаль, что на конедром не ходят фанатики из ОБХСС. Был бы тогда полнейший ажур. А то куда ни глянь – одни аферюги!
– У ОБХСС другие, запрограммированные заезды. Короче, в воскресенье разыгрывается дерби – «Большой всесоюзный приз»! Идешь?
– Нет! Жена ультиматум поставила: «Или – я, или – кобылы!» Теща Ивановна поддержала: «Гадючник этот, говорит, – большая для семьи трагедия! Ты бы лучше, говорит, тапочки или комбинезон мне купил. Вон, кричит, Пепченко, твой друг, из второгодников который не вылазил, тещу на собственном «Запорожце» возит!»
– Шихман, кончай кадить и шуруй на свою антресоль!
Антресолью называют верхний полуэтаж слесарей-инструментальщиков, металлическая лестница к которому поднимается с токарного участка.
Отец задерживался. Александр Михайлович и еще трое рабочих очень нервничали, будто что-то случилось, похаживали взад и вперед возле установки, посматривая то в открытые окна, через которые была видна проходная, то на участок токарей – не идет ли?
– Где его черт валандает?! Желудочный сок уже выделяется, а печенка ерепенится вовсю. Давай без него! Я буду тамада.
Сережке не понравилось до возмущения, что, говоря об отце, этот рабочий упомянул «черта», и он, волнуясь, жалея в душе отца, сердито исподлобья глянул на остроносого, с высосанными щеками мужчину.
«Долгоносик»! – сказал про себя Сережка, считая, что этим смыл с отца грязное, липучее слово.
– Идет, слава богу! – сказал «долгоносик», радостно потирая руки, щурясь и улыбаясь чему-то.
Павел взял «тормозок» у сына, пошел с друзьями в бытовку, что была за конторкой мастера. Коричневая обшарпанная дверь, мяукнув, захлопнулась, и Сережка стал терпеливо ждать отца. Чтобы не подумали, что он ненароком подслушивает чужой разговор за дверью, он ушел на токарный участок.
3
Тень от домов и деревьев какая-то унылая, усталая, разморенная, и она, бессильная перед торжествующей, ярко-хвастливой жарой, хочет быстро спрятаться в прохладные подвалы, подъезды и квартиры людей. Она, эта тень, вовсе не тихая, – Сережка это точно знает. Она нежно шепчет ему что-то Моцартовское, Шопеновское. А высокорослые тополя, на которые он улыбаясь смотрит, изредка тихо аплодируют листвой солнечному дню.
Мальчик шел рядом с отцом и ему казалось, что отец знает, о чем он сейчас думает.
Павел Валунов не хотел ни о чем говорить, ибо все, сказанное бы им сейчас, думал он, было бы неинтересным, обычным, банальным. Он страшно не любил пустословия и фальши в речи, в особенности – краснобаев и велеречивцев, и, услышав нечто подобное от них, громко говорил: «Умные люди высказывают мысли, вы же, красноперы, стараетесь украсить фразу фольговыми словесами!»
Желваки у Павла прыгали и ему хотелось сейчас убежать в лес, уехать в любую глухомань, чтобы спрятаться от шума улиц, от однообразных голосов, от житейской суеты. Апатия и хандра, поселившиеся в нем с недавних пор, напрочь душили в душе жизнелюбие и радость.
Убежать, уехать… Куда? Зачем? Он знал, что там, в уединении, ощущая изморозь одиночества, ему будет еще скорбнее и тоскливее, и то, что сейчас мучает, будет там еще больнее. И захочется крикнуть, и эхо души, пронесясь птицей над человечеством, улетит во вселенную, чтобы потом снова вернуться в свою обитель. И только сердце поймет его, только оно успокоит, но не вылечит от боли; и еще – музыка, дарящая воспоминания первой любьви и детства – тихого и немножко грустноватого.
«Может, у отца гипертония? – спрашивал себя Сережка.– Какое красное лицо!»